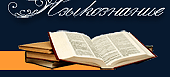
Русские говоры
Из рассказов диалектолога (В. Е. Гольдин)
"Где человек родился, там и годился"
Чем ближе знакомились мы со старожилами Дубровки, тем представлялось все более странным, что еще недавно никто из нас даже не слышал об этой калужской деревне и мог бы прожить жизнь, не узнав Наталии Ивановны или Марии Леонтьевны, не поговорив с Марией Акимовной... Есть за дубровским полем село Мокрое, за ним - еще деревни, города, великое множество городов и сел, где мы никогда не были и едва ли побываем. Но то другое дело, а здесь - здесь мы были в положении счастливца, который нашел сокровище и теперь напуган мыслью, что мог пройти стороной и не заметить его.
До обеда я говорил с соседями, сделал много записей и вот сидел на ступеньках крыльца Марии Акимовны, у которой мы квартировали, грелся под июльским солнцем и разбирал свой черновик, отмечая, что нужно проверить еще раз. Новина - так называют здесь впервые в году собранную ягоду. Но только ли ягоду? А первые огурцы? Картофель? В других местах, бывает, зовут новиной новое платье, посуду и любую только что приобретенную вещь. Может быть, и здесь так?
- Мария Акимовна! Когда у вас говорят новина?
- А вот появилась нынче ягода - новина, - тотчас откликается хозяйка. Она оставляет посуду, вытирает о передник руки, садится рядом. Неторопливо рассказывает о слове и неожиданно заканчивает поговоркой: "Новая новина - в старое брюхо!". Смеемся.
Разговор переходит па слово мех, и я многое узнаю о мехе в кузне, о мехах у гармони, о мешках, что меху родня и без которых в хозяйстве не обходятся, и в конце получаю пословицу: "Пропадет мех - и на батьку грех".
Беседа налаживается. Напомню я слово, Мария Акимовна тут же скажет, к чему его применить, что им в Дубровке называют, когда говорят, а в заключение непременно пословице или поговорке научит: "Язык - мясо, что захочет, то и слопочет; глядь - вылетает слово". Или: "У зимы рот широк - все подъедит".
Получается, как в хорошем толковом словаре: Мария Акимовна сначала "свободные" значения объясняет, употребление показывает, а потом устойчивые выражения с этим словом приводит. Каждому точное место находит, как любой нужной в хозяйстве вещи: важное, жизненное применение. - Родина. Где человек родился. Моя родина в Дубровке. Я калужская, это моя родина. Где человек родился, там и годился.
Подошла соседка и молча остановилась. Вслушалась. Не перебивает, кивает только: так, мол, так.
"Здесь вслушаться надо, здесь надо всмотреться..."
Слушает, бывает, диалектолог - все привычно, ясно... И вдруг чего-то не понял. Досадно? Нисколько. Напротив: это в работе счастливый момент наступил. Не понял - значит, неточно себе говор представил или временно слух притупил. Непонимание - как холодная вода, мысль и слух освежает. Здесь вслушаться надо, всмотреться, и тогда тебе непременно интересное и важное откроется, только разберись. А когда разберешься, так прошедшему своему непониманию рад, что потом долго его забыть не можешь.
Работали мы в одной северной деревне, где "чокают", ч и ц одинаково как ч выговаривают. Чай в таком говоре - чай, а целый - челый. В первые дни чоканье на каждом шагу попадалось, потом как-то реже стало встречаться. Смотрим - в записях то и дело ц мелькает. То ли чоканье здесь неяркое, то ли мы привыкать к нему начали, хуже его слышим, не замечаем.
Размышляю я об этом и одновременно бабушкин рассказ записываю. Жила она раньше с дочерью. Дочь в сельмаге работала, не захотела больше в деревне жить, оставила мать одну, в Северодвинск уехала.
- И так уж ее здесь чинили-и-и! - сокрушается старушка.
- За что же ее... чинили? - осторожно спрашиваю я, полагая, что чинить - это, по-местному, ругать, осуждать или что-то в этом роде.
- Хорошо работала дак. За то и чинили! - удивляется моей недогадливости собеседница.
Вот оно что! Попрубуй теперь усомниться в чоканье, если ценить за чинить принял.
В курской деревне памятный случай с "быками" вышел. Спрашиваю у встречной, как найти дом такой-то.
- Во-о-н он. Глянь-ка: у хаты два быка видно. Это ее.
На холме за огородами ряд домов. Вижу плетни, вишни в садах, колодец. А вот быков не нахожу.
- Два быка?
- Вот, вот. Два быка. Иди, иди. Она дома.
Что делать? Иду. Нашел все же дом. Разговариваем с хозяйкой. У нее, как у всех здесь, прекрасное диссимилятивное аканье: когда под ударением стоит я, то в слоге перед ним она а не произносит, заменяет его на другой звук, похожий на ы. Говорит вады и выда, найду и нышла. В блокноте у меня появляются стыкан, трыва, гыра, кыза... Прощаюсь, наконец, и ухожу. Огородами спускаюсь к ручью. Вот и место, где расспрашивал о дороге. Оборачиваюсь и еще раз смотрю на деревню. Дома стоят ко мне одной стороной и кажутся поэтому плоскими. Только хата, в которой я был, повернута несколько боком. Отсюда хорошо видны два ее бока - "быка", аккуратно обмазанные глиной.
"Младая роща разрослась"
Стихотворение Пушкина "...Вновь я посетил..." всегда представлялось мне чудом искренности и простоты. Удивительная точность и размеренность пушкинской речи буквально приводили в трепет. И лишь одно слово казалось здесь странным, неоправданным. Мне никак не удавалось понять его таким образом, чтобы оно соответствовало картине в целом, не разрушало бы ее. Это слово роща.
На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят - одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко, - здесь, когда их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном.
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я и пред собою
Увидел их опять. Они всё те же,
Все тот же их, знакомый уху шорох -
Но около корней их устарелых
(Где некогда все было пусто, голо)
Теперь младая роща разрослась,
Зеленая семья; кусты теснятся
Под сенью их как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вкруг него
По-прежнему все пусто.
Согласитесь, трудно вообразить рощу из кустов, которые теснятся у корней всего двух рядом стоящих деревьев. Ведь для нас роща - это небольшой, но все-таки лес. Мне казалось, что у Пушкина здесь неточная метафора.
Однако сколько же деревьев должно расти вместе, чтобы их можно было назвать рощей? Это напоминает старую задачу: "Сколько зерен нужно добавить к одному, чтобы получилась куча?". И все же: ведь три дерева - не роща? И четыре? И пять? А девять деревьев?
Примирение с этим образом наступило в одной из экспедиций. Недалеко от Онежского озера, при слиянии Мегры и Лемы, лежит деревушка Верховье. Пройдешь ее темный бревенчатый мост, повернешь направо и выйдешь за околицу. Берег поднимается здесь над Мегрой высоким крутым обрывом; горбом выгибается старая, вся в промоинах, дорога, а рядом с ней - десяток сосен. И оттого, что между их стволами светло и чисто и от сомкнувшихся их вершин шорох едва доносится до земли, все место кажется еще выше.
Стояла тут когда-то часовенка. В память об этом или ради сохранения красоты места сосны не рубят. Больше, пожалуй, - ради красоты, потому что часовню давно перевезли в Верховье и превратили в амбар. Из другой такой же сделали баньку, а там, где она была, тоже осталось несколько сосен, и их так же, как и сосны над обрывом, называют в Верховье "рощей".
Не сразу уловишь, чем местное значение слова роща отличается от привычного нам литературного (небольшой, обычно лиственный лес). И все же понимаешь, что в слове подчеркивается но столько величина рощи, сколько ее выделенность, "береженность", особое отношение к ней человека. Это очень близко к тому старому значению слова, которое привел в словаре В. И. Даль: "Роща - пуща, заповедный лес, заказник, ращеный или береженый лес; чисто содержимый лесок, парк..."
Поразмыслишь над этим и поймешь, что, пожалуй, и в литературной речи в смысл слова роща входит оттенок особой связи ее с человеком, чего нет у слова лес. Но в современном литературном языке этот оттенок спрятан, его еще нужно доискаться, а в говоре Верховья именно он - основной.
Видятся мне теперь старая роща из трех сосен и роща новая, подрастающая. И потому, читая стихотворение Пушкина, я выделяю ударением не роща, а младая: "младая роща разрослась".
|
ПОИСК:
|
© GENLING.RU, 2001-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://genling.ru/ 'Общее языкознание'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://genling.ru/ 'Общее языкознание'