
Часть вторая
Два подхода к изучению языка
Развитие всякой науки предполагает изменение не только методов, но и предмета изучения, точнее говоря - изменение понимания предмета изучения. В соответствии с этим последним обстоятельством расширяются или сужаются (последнее обычно имеет место при вычленении отдельной области исследований в самостоятельную науку) границы данной науки. Так, первоначально психология трактовалась как наука о душе (такое толкование сохраняется еще и в широко известном "Философском словаре" Г. Шмидта издания 1957 г.). Ныне же она определяется как наука, имеющая предметом своего изучения психическую деятельность, психические свойства и состояния субъекта (при его взаимодействии с объектом). Этот пример наглядно показывает, что, хотя и в первом и во втором случае мы имеем дело с одной и той же наукой, предмет ее изучения (так же как и методы) подвергся существенному перетолкованию и фактически изменился.
С этой точки зрения интересно взглянуть и на языкознание не столько в порядке исторического разыскания, сколько в целях уточнения направлений современных лингвистических исследований. Это, в частности, представляется своевременным и потому, что язык (составляющий, по всей видимости, предмет изучения лингвистики или языкознания) определяется ныне весьма разноречивым образом.
Но здесь мы с самого начала сталкиваемся с большими трудностями. Так, неясно, откуда следует начинать, ибо существуют две версии о времени возникновения науки о языке. Согласно одной версии (достаточно распространенной) языкознание - очень молодая наука и зародилась она лишь в первой четверти прошлого века, когда в трудах; Ф. Боппа, Р. Раска, А. X. Востокова и Я. Гримма были сформулированы и применены к лингвистическому материалу принципы сравнительно-исторического изучения. А все те, кто и до этого времени занимались вопросами языка (а ими были такие замечательные мыслители и ученые, как Аристотель, Платон, Бэкон, Лейбниц, Руссо и др.), относятся к "донаучному периоду". Легко увидеть, что эта версия связывает создание языкознания с возникновением определенного метода. Если принять эту версию и сделать из нее логические выводы, то это значит дать право всем последующим методам производить летосчисление науки о языке со времени возникновения этих методов. Кстати говоря, это право действительно охотно присваивали себе многие методы. В качестве самых "свежих" примеров такого произвола можно сослаться на "новое учение о языке" Н. Я. Марра, перечеркнувшего все предшествующее языкознание как "буржуазное", и на так называемую "математическую лингвистику", которая устами наиболее рьяных своих последователей объявила традиционную лингвистику ненаучной на том основании, что она не использовала математического аппарата. Очевидно, что данную версию следует признать несостоятельной уже и на основе приведенных соображений.
Вторая версия отличается большей широтой взглядов. Она считает, что языкознание возникло тогда, когда язык впервые стал привлекаться к научному рассмотрению. Такая постановка вопроса делает языкознание очень старой наукой. Разумеется, при этом понятие научности носит относительный характер и не может измеряться современными критериями. Научное рассмотрение языка является научным в той мере, в какой мы признаем научными все теоретические построения древних народов (например, древней Греции). Но, приняв эту, видимо более обоснованную, версию, мы сталкиваемся с новыми трудностями.
Дело в том, что в этом случае мы будем иметь дело не с единой линией развития - по меньшей мере нам придется считаться с тремя научными традициями - классической, древнеиндийской и арабской, каждая из которых характеризуется особым подходом к изучению языка. Правда, все они обладали некоторыми общими чертами и, кроме того, в конечном счете слились, образовав единое научное русло. Это и дает нам возможность отмыслиться от специфических частностей, характерных для отдельных национальных традиций, и говорить суммарно о тех факторах, которые, уходя своими корнями в далекое прошлое, ощущаются еще и ныне, оказывая прямое или косвенное воздействие на современное понимание языка и направления его изучения.
Пожалуй, наиболее важным для понимания сущности языкознания, что зародилось много веков назад и сохраняется и ныне, является определение его как филологической дисциплины. Следствием такого понимания является тот сугубо частный факт, что язык изучается на филологическом факультете, а еще совсем недавно (в зарубежных университетах и теперь еще) - на историко-филологических факультетах. Это, казалось бы, совершенно внешнее обстоятельство говорит, однако, о многом.
Ко времени возникновения сравнительно-исторического метода относится и деятельность В. Гумбольдта. О нем можно было бы многое сказать, и следует только пожалеть, что до настоящего времени не создана еще монография о его научном творчестве*. Но, пожалуй, все многое, что можно сказать о нем, соединяется в том его качестве, что В. Гумбольдт является самым современным из всех лингвистов прошлого. Каждое поколение языковедов вновь и вновь возвращается к его идеям и, говоря о "филологическом" понимании языка, свойственном и современному состоянию науки, нам опять придется обратиться к нему.
* (Объемистую книгу Гайма "В. фон Гумбольдт", М., 1889 (в оригинале: Hsym, W, von Humboldt, 1856) нельзя считать подобного рода монографией-это, скорее, биография. Из последних работ см.: Г. В. Рамишвили, Некоторые вопросы лингвистической теории В. Гумбольдта. (Автореферат канд. дисс.), Тбилиси, 1960.)
В. Гумбольдт писал: "По своей действительной сущности язык есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный момент преходящее. Даже его фиксация посредством письма представляет далеко не совершенное, мумиеобразное состояние, которое предполагает воссоздание его в живой речи. Язык есть не продукт деятельности (ergon), а деятельность (energeia)... В беспорядочном хаосе слов и правил, который мы обычно именуем языком, наличествуют только отдельные элементы, воспроизводимые - и притом неполно - речевой деятельностью; необходима все повторяющаяся деятельность, чтобы можно было познать сущность живой речи и создать верную картину живого языка. По разрозненным элементам нельзя познать того, что есть высшего и тончайшего в языке, это можно постичь и ощутить только в связной речи, что является лишним доказательством в пользу того, что сущность языка заключается в его воспроизведении... Расчленение языка на слова и правила - это только мертвый продукт научного анализа"*. Ниже в той же работе В. Гумбольдт опять возвращается к этой мысли: "Наряду с уже оформившимися элементами язык состоит из способов, с помощью которых продолжается деятельность духа, указывающего языку его пути и формы. Уже прочно оформившиеся элементы образуют в известном смысле мертвую массу, но в ней заключается живой зародыш нескончаемых формаций"**.
* ( В. Гумбольдт, О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода. Цитировано по кн.: В. А. Звегинцев, история языкознания XIX и XX веков, ч. I, М., 1960, стр. 73.)
** (Там же, стр. 82.)
Итак, по смыслу приведенных цитат В. Гумбольдт противопоставлял друг другу два вида изучения языка -как деятельность и как результат деятельности. Эти два вида изучения образуют два различных понимания предмета изучения в языкознании. Филология - это "агрегат наук" (слова Гегеля), обращенный на изучение памятников. "Филология,- разъясняет "Литературная энциклопедия" (т. 11, 1939, стр. 728), повторяя распространенное определение,- система знаний, необходимых для научной работы над письменными памятниками, преимущественно на языках древних, часто мертвых". Филологическое изучение языка - это, следовательно, изучение его как "памятника" или, говоря словами В. Гумбольдта, как мертвого продукта деятельности. Такого рода подход связывается и с многими другими качествами. Язык как "памятник" народа, отдельного периода своего развития, известной эпохи, социального образования, локального диалекта, литературного направления, отдельного писателя и пр. естественно располагается в одном ряду с другими "памятниками": культуры, литературы, истории и т. д. Иными словами, он для наиболее полного и глубокого своего познания требует комплексного подхода, образуя тот "агрегат", о котором говорил Гегель. Язык при этом обычно рассматривается как носитель и средоточие перекрестных влияний тех "памятников" неязыкового рода, в ряду которых он помещается. Меняется только точка зрения, с которой рассматриваются свойства языка как "памятника". Так, например, Я- Гримму принадлежит известное изречение: "Наш язык - это также наша история";
А. Шлейхер утверждал, что "язык есть звуковое выражение мысли, проявляющийся в звуках процесс мышления"; К. Фосслер, отмечая творческий характер языка, утверждал, что история языка есть "история искусства в самом широком смысле этого слова"; младограмматики искали в языке следы индивидуально-психологических процессов; возражая им и вместе с тем сохраняя понимание языка как результативного явления, видный представитель советского языкознания С. Д. Кацнельсон пишет: "Что же касается языкознания, то оно интересуется не психическими процессами речи, а их "результативными" образованиями, элементами языкового строя, рассматриваемого не. в индивидуально-психологическом, а в общественно-историческом плане"*. Правда, младограмматики декларировали, что языковые изменения, которым они стремились придать закономерный характер ("фонетические законы"), происходят в gewonlicher Sprachtatigkeit ("обычной речевой деятельности") и тем самым как будто обращались к процессу общения. Но это лишь декларация. В действительности они занимались изучением проецированных на плоскость языка психических процессов речи (так не устраивающих С. Д. Кацнельсона) и в конечном счете имели дело лишь с "результативными" образованиями.
* (Г. Пауль, Принципы истории языка, М., 1960, стр. 15.)
Второй особенностью подхода к языку как к "памятнику" является то, что он изучается главным образом в письменной своей форме (по В. Гумбольдту, "в мумиеобразном состоянии"). И это естественно: ведь "памятник" - постольку памятник, поскольку он фиксируется в достаточно "вечном" материале, а письмо в этом отношении значительно превосходит мимолетный звук. Такого рода "письменному" уклону изучения языка способствовало и то обстоятельство, что в традиционном языкознании превалировал преимущественно исторический подход к изучению языка, который некоторыми советскими языковедами возводится даже в ранг методологических принципов марксистского языкознания. Такая трактовка представляется, по меньшей мере, непродуманной. Исторический подход к изучению языка вынужден ограничиваться письменными памятниками, так как в иной (устной) форме прошлые этапы развития языка не свидетельствуются. Но эту вынужденную ограниченность возводить в принцип совершенно не обоснованно. Ведь устная форма языка представляет собой систему, значительно отличающуюся от письменной, и поэтому намеренно замыкаться в рамках последней - значит отказываться от всестороннего и адекватного познания языка. В приведенной выше цитате из работы В. Гумбольдта говорится о том, что "необходима все повторяющаяся деятельность, чтобы можно было познать сущность живой речи и создать верную картину живого языка". Исторический подход, основанный на письменных памятниках, не может дать этого и, следовательно, не способен воссоздать "верную картину живого языка".
Ко всему сказанному следует добавить, что в историческом подходе, характерном для классического сравнительно-исторического языкознания, подлинной историчности нет. Есть лишь хронологически расположенные факты изменений языка, свидетельствуемые соответствующими памятниками. При этом не делается никаких попыток (если не считать ряда умозрительных теорий, объясняющих, например, фонетические изменения*) вскрыть причинность этих изменений, что только бы и дало основание говорить о действительно историческом изучении языка.
* (Таковы теория поколений, теория удобств, теория климатических и культурных условий, экономичность и пр. )
На первый взгляд может показаться, что воссоздание "верной картины живого языка" при таком изучении, когда в основу кладется письменная форма языка, может быть достигнуто и посредством накопления возможно большого количества языкового материала. Предполагается, что в массе "мумиеобразного" материала окажется возможным выявить продуктивные, живые тенденции. Если это и так, то это относится все же лишь к письменной форме языка. Но и это сомнительно. При подходе к языку как к "памятнику" накопление материала не имеет целей воссоздания качеств живого языка, оно превращается в самоцель, в соответствии с чем в работе языковеда в качестве его главного достоинства ценят знание материала, т. е. способность на самое очевидное правило нагородить горы примеров, заимствованных из соответствующих "памятников". Это мало чем отличается от характера работы средневековых арабов, считавших научной доблестью способность на заданный пример привести по памяти сотни подобных же, взятых из бедуинской поэзии. В результате подобного "количественного" подхода и возникает "беспорядочный хаос слов и правил, который мы обычно именуем языком". Подобного рода подход скорее можно оправдать при истолковании языка как синхронической системы, где исключается всякая динамика (развитие) и статичность возводится в принцип. Но в этом случае ставится иная цель - в "корпусе" (т. е. в массе текстов) вскрыть систему. Едва ли нагромождение материала способно на большее.
Разумеется, конкретным предметом исследования может быть какой-нибудь локальный диалект, который до самого момента его изучения даже и не фиксировался в письменности, или же тот или иной аспект разговорного, "живого" языка (например, синтаксис разговорного языка), но от этого ровно ничего не меняется. Даже в подобных случаях -действует филологическая инерция и к исследуемым явлениям применяется все тот же подход, рассматривающий их как "памятники". На этот раз это будут "памятники" данного диалекта или разговорного языка. Иначе и не может быть, так как такой подход диктуется общим пониманием языка как мертвого продукта деятельности.
Третьей особенностью филологического подхода к изучению языка, тесно связанной с предыдущей, является нормативность. Нормативность требует во всем "правильности" - на эту пресловутую "правильность" ориентируются исследования в области лексики, грамматики, фонетики, стилистики и пр. Конечно же, правильность и нормативность нужны, но только на своем месте. А место им - на службе культуры речи ив учебном процессе. Они не должны заслонять всего неоглядного поля лингвистических исследований и особенно теоретических исследований, которым понятие "правильности" в такой же мере чуждо, как и морскому закату или горному воздуху. Нормативный подход к языку настолько въелся, что "правильное" очень часто начинают отождествлять с закономерным - именно на этом отождествлении (или, точнее, на этой путанице) покоятся частые утверждения, что то или иное уклонение от правила, непроизвольно возникающее в живой речи, противоречит "духу и законам" языка.
Правильность поддерживается авторитетом письменного "памятника". Между письменной формой речи и правильностью языка устанавливается прямая зависимость - правильно в первую очередь то, что правильно написано. Это представление поддерживается всей нашей учебной практикой, так как и в школе и на филологических факультетах практически учат правильно писать, а не правильно говорить. Ведь за неправильное письмо тотчас последует соответствующая оценка, а правильность (или неправильность) речи обычно никак не оценивается. Педагог может выразить свое недовольство (или, наоборот, удовлетворение) устной речью ученика или студента, но он не имеет права повысить или понизить оценку за нее.
Самое худшее в этой нормативной практике заключается в том, что она медленно, но верно прививает нечувствительность к силе, гибкости и поразительной подвижности языка. Возращаясь опять-таки к приведенным выше словам В. Гумбольдта, мы можем сказать, что теряется ощущение и знание того, что "наряду с уже оформившимися элементами язык состоит из способов", с помощью которых продолжается деятельность человеческого ума, что в заученной мертвой массе слов и правил "заключается живой зародыш нескончаемых формаций". Говоря о роли письменных форм языка в такого рода нарочитом "ослеплении", Ж. Вандриес живописует его следующими красочными словами: "Этот процесс образования письменных языков можно сравнить с образованием слоя льда на поверхности реки. Лед образуется из воды реки; вернее, он не что иное, как вода реки, но в то же самое время он и не река. Ребенок, увидев лед, наивно думает, что реки больше нет, что ее течение остановилось. Иллюзия! Под слоем льда вода продолжает течь, следуя своему руслу. Если бы случайно лед треснул, вода бы сразу брызнула вверх. Так и с языком. Письменный язык - ледяная корка на реке. Текущая подо льдом река - народный естественный язык. Холод, производящий лед и стремящийся задержать течение реки,- это усилия грамматиков и учителей, а луч солнца, освобождающий язык из плена,- это непобедимая сила жизни, побеждающая правила, ломающая узы традиции"*. Продолжая эту развернутую метафору, мы. можем сказать, суммируя особенности филологического, "результативного" подхода к языку, что его усилия направляются на изучение ледяной корки, образующейся на реке, в то время как под нею, невидимо и неприметно, проносится мимо вода. Конечно же, лед - это одно из состояний воды, но разве он может дать исчерпывающее представление о качествах воды? Разве "результативные" образования языка могут дать нам знание тех качеств языка, которые проявляются в его деятельности?
* (Ж. Вандриес, Язык, М., 1937, стр. 253. )
В последнее время много говорится о различиях между "традиционным" и "новейшим" языкознанием. В своем противопоставлении "традиционному" языкознанию "новейшее" языкознание характеризуется как объективное, точное, структурное. Эти различия таким образом связываются по преимуществу с методами. Так во всяком случае поступают последователи "новейшего" языкознания. Что касается представителей "традиционного" языкознания, то свою борьбу с агрессивностью "новейших" методов они предпочитают переносить на методологическую почву. В упрек языковедам, исповедующим "новейшие" методы, они ставят релятивизм, операционализм, антисубстанционализм и другие качества, свойственные неопозитивизму. Надо, однако, с полной ясностью констатировать, что в этой ситуации философская позиция представителей традиционного сравнительно-исторического языкознания отличается большой двусмысленностью. Ни для кого не составляет секрета, что методологической основой "традиционного" языкознания является старомодный позитивизм, и поэтому критика с его позиций "новейших" методов представляет уж совсем комическое зрелище, не замечают которое только исследователи, лишенные всякого чувства юмора.
Действительного различия в понимании языка между традиционалистами и новаторами нет - и те и другие изучают его как "результативное" образование. Более того, в после соссюровский период еще больше утвердился этот подход. Он только установил новое определение результативного характера языка, назвав его "статической структурой" или "системой". И в дескриптивной лингвистике, и в глоссематике, и в так называемой "математической лингвистике" язык предстает перед исследователем как распластанное мертвое тело. Споры между последователями этих направлений напоминают распри гробовщиков, убеждающих друг друга, что та мерка, которой каждый из них меряет мертвое тело, является самой точной.
Так, в дескриптивной лингвистике такого рода меркой является повторяемость элементов или их последовательностей в отношениях друг к другу. "Дескриптивная лингвистика,- пишет ведущий теоретик этого направления З. Хэррис,- есть особая область исследования, имеющего дело не с речевой деятельностью в целом, но с регулярностями определенных признаков речи. Эти регулярности заключаются в дистрибуционных отношениях признаков относительно друг друга в пределах высказываний... Главная цель исследования в дескриптивной лингвистике... есть отношение порядка расположения (дистрибуция) или распределения (аранжировка) в процессе речи отдельных ее частей или признаков относительно друг друга"*.
* (З. С. Хэррис, Метод в структуральной лингвистике. Цитировано по книге: В. А. 3вегинцев, История языкознания XIX и XX вв., ч. 2, М., 1960, стр. 154.)
Глоссематика в качестве своей мерки использует "глоссематическую алгебру", которая универсальна. "Она стремится создать исчиление некачественных функций, применение которых к материалу должно привести к его описанию в терминах отношений, корреляций и дериваций"*.
* (Н. Udall, Outline of Glossematics, Copenhagen, 1957, p. 86.)
Математическая лингвистика со своей стороны предлагает использовать для "измерения" языка формальное моделирование. А моделирование языка, как объясняет И. И. Ревзин,"есть метод, при котором исследователь исходит из некоторых наиболее общих черт конкретных языков, формулирует некоторые гипотезы о строении языка как абстрактной семиотической системы, а затем устанавливает, в каком отношении находятся следствия из этих гипотез и факты реальных языков, описываемые конкретными лингвистическими дисциплинами"*. И далее И. И. Ревзин дает краткое описание того, как строится модель: "Существенным исходным понятием модели языка является понятие разбиения множества элементов на подмножества. Иначе говоря, обычно считается заданной некоторая система подмножеств исходного множества, и для каждого элемента указано, к каким множествам они принадлежат... Большинство моделей строится так, чтобы, основываясь на этом исходном разбиении, получить некоторое разбиение на не пересекающиеся классы. Иногда некоторое разбиение на не пересекающиеся классы задается дополнительно. Так или иначе все модели... сводятся к намеченному здесь кругу понятий элемента кортежа и некоторых разбиений множества исходных элементов"**. Легко увидеть, что все подобные методы содержат столько же возможностей для исследования динамических свойств деятельности общения, как и все "традиционные" методы.
* ( И. И. Peвзин, Модели языка, М., 1962, стр. 8. )
** (Там же, стр. 11, )
Можно иметь разные суждения о предпочтительности той или другой мерки*. Желательно только при этом, как замечает П. Н. Федосеев, "разумно сочетать так называемое "традиционное языкознание" и "новые" течения, добиваться синтеза методов количественного и качественного анализа языка, определив сферы их наиболее целесообразного применения, всемерно использовать при изучении языка достижения всех других областей знания - математики, кибернетики, а также истории, философии, логики, психологии и т. д., чтобы обогатить наше языкознание"**.
* (Например, О. С. Ахманова дает следующую глубокую и научно обоснованную оценку глоссематикн: "...теория Ельмслева помогает тем, кто пытается отравить ядом космополитизма сознание народов, отстаивающих свою независимость от посягательств американского империализма" (О. С. Ахманова, Основные направления лингвистического структурализма, М., 1955, стр. 21). )
** (П. Н. Федосеев, Некоторые вопросы развития советского языкознания. Сб. "Теоретические проблемы современного советского языкознания", М., 1964, стр. 36-37)
При всем при том совершенно очевидно, что все предлагаемые мерки приложимы только к языку, понимаемому как продукт деятельности, как "результативное" образование, а не как деятельность. Более того, такое понимание языка создает удобную и вполне реальную основу для воссоединения "традиционных" и "новых" методов - ведь и у первого и у второго, по сути дела, сохраняется тот же самый подход к языку и варьируются лишь рабочие приемы его исследования, которые в значительной степени подсказываются конкретными теоретическими или практическими задачами.
Наряду с таким изучением языка возможно иное - в его деятельности. Но что значит изучение языка как деятельности? И в какой мере оправдан и целесообразен этот второй из выделенных В. Гумбольдтом подходов?
Здесь сразу же необходимо устранить одно возможное недоразумение. Можно ожидать при такой постановке вопроса возражения, основывающегося на том, что деятельность языка изучает психология, а процессы общения - теория коммуникации.
Действительно, в любом курсе психологии мы найдем раздел, в котором трактуются проблемы, имеющие прямое отношение к языку. Однако не следует обманываться: фактически во всех подобных случаях мы имеем дело не с психологией языка, аспсихологией речи или же с вербальным поведением человека. Этот раздел выделился даже в самостоятельную дисциплину, имеющую большую литературу*. Здесь рассмотрение проводится с точки зрения психологических предпосылок пользования языком. И хотя это собственно психологическая область, все же не значит, что она должна быть совершенно отделена от изучения языка как деятельности. Нет никаких оснований отказываться в этом случае от помощи психологии, но при этом и не подменять языковые категории неязыковыми. Психологизм преследовался в последние годы в языкознании именно потому, что имело место как раз такое неоправданное отождествление разных по своей природе явлений. Но это привело к тому, что вместе с психологизмом (и прочими "метафизическими" представлениями) из языкознания были изгнаны и собственно языковые явления, в частности языковое значение. В исследовании, основанном на понимании языка как деятельности, между лингвистикой и психологией должны существовать отношения не покорителя к покоренному, а отношения дружественных держав, оказывающих друг другу всевозможную помощь**.
* (См. такие книги, как: О. Dittrich, Die Probleme der Sprach-i psychologie, Leipzig, 1913; E. Froschels, Psychologie der Sprache, Leipzig und Wien, 1925; B. F. Skinner, Verbal Behavior, New York, 1957, F. Кainz, Psychologie der Sprache, Stuttgart, 1941 и далее.)
** (В американской лингвистике противопоставление двух подходов к изучению языка принимает форму борьбы между менталистической лингвистикой и таксономической лингвистикой, под которой следует понимать линию развития, идущую от механизма Блумфилда к крайнему дескриптивизму Хэрриса. Это, в частности, отчетливо демонстрирует статья Дж. Катца "Ментализм в лингвистике", которая начинается следующей констатацией: "Лингвисты, понимающие свою науку как дисциплину, которая собирает высказывания и занимается их классификацией, часто похваляются своей свободой от ментализма. Но свобода от ментализма есть черта, присущая таксономической концепции лингвистики, так как соответственно этой концепции лингвист начинает свое исследование с физически наблюдаемых фактов и ни на какой его стадии ничего более в него не вносит". Разобрав все последствия, которые обусловливает эта концепция, Дж. Катц заключает свою статью следующим выводом: "Таксономическая лингвистика может лишь описывать высказывания языка; менталистическая лингвистика может делать не только это, но также и объяснять, как люди общаются посредством этих высказываний и как осваивается эта способность и общению... Свобода от ментализма, присущая таксономической концепции лингвистики, есть присущая ей слабость" (J. Katz, Mental ism in Linguistics, "Language", 1964, vol. 40, № 2, pp. 124-137)).
Аналогичным образом обстоит дело и с отношениями между общением как лингвистическим явлением и теорией связи. И нет никаких оснований сомневаться, что и здесь, при принципиальном отличии методов и задач исследования, можно ожидать многого от взаимной их помощи друг другу*. Опять-таки и в этом случае нужно помнить, что при решении задач одной науки методами другой адекватных ответов не получается.
Однако вернемся к поставленным вопросам относительно нового - динамического - подхода к языку.
* (Специально этому вопросу посвящена статья Р. Якобсона "Лингвистика и теория связи" (русский перевод в книге: В. А. Звегинцев, История языкознания XIX - XX веков в очерках и извлечениях, ч. 2, М., 1965), где он с большим оптимизмом пишет: "Между последними этапами лингвистического анализа и подходом к языку в математической теории связи обнаруживаются поразительные совпадения и сближения. Поскольку каждая из этих двух дисциплин имеет дело с одной и той же областью устных сообщений, хотя и различным и совершенно самостоятельным образом, тесный контакт между ними оказался взаимополезным и, несомненно, будет становиться все более плодотворным" (стр. 435). Р. Якобсон приводит перечисление ряда проблем, где совместное участие обеих наук особенно желательно, подчеркивая одновременно и необходимость принять динамическую точку зрения. В частности, он пишет: "Язык никогда не являлся монолитным; его основной код включает ряд подкодов, и такие вопросы, как правила трансформации оптимального, явно выраженного, основного кода в различной степени эллиптические подкоды, а также их сравнение в отношении количества информации требуют как лингвистического, так и инженерного исследования. Обратимый код языка, со всеми его переходами от подкода к подкоду и со всеми постоянными изменениями, которые этот код претерпевает, должен быть описан средствами лингвистики и теории связи в результате совместного и внимательного изучения. Понимание динамической синхронии языка, включающее координаты пространства и времени, должно прийти на смену традиционной схеме произвольно ограниченных статичных описаний" (стр. 439). )
В соответствии с этим подходом прежде всего по-иному должен быть сформулирован предмет изучения. И в современном языкознании мы все чаще встречаемся с такого рода новыми определениями. Для примера можно обратиться к книге шведского лингвиста Бертила Мальмберга, написанной с позиций динамического подхода к изучению языка*. "Было бы неправомерно,- пишет он во введении к этой книге,- классифицировать лингвистику - науку о языке - только как область гуманитарных наук, как это обычно делается. Лингвистика имеет дело с проблемами, являющимися базовыми для всех наук, поскольку всякое научное исследование должно быть глубоко заинтересовано функциями и особенностями средства, с помощью которого неизбежно выражаются научные предпосылки, научные выводы и научные описания"**. И исходя из роли языка в человеческих отношениях, он определяет лингвистику как науку о коммуникации***.
* (В. Malmberg, Structural Linguistics and Human Communication, Berlin-Gottingen-Heidelberg, 1963. )
** (В. Malmberg, Structural Linguistics and Human Communication, Berlin - Gottingen-Heidelberg, 1963, p. 1.)
*** (Tам же, стр. 5.)
Это определение можно было бы принять, если бы не одно обстоятельство. В силу своей чрезвычайной лапидарности оно может повести к слишком широкому толкованию лингвистики и, например, включить в нее также и инженерные проблемы коммуникации. Поэтому более правильным представляется определить лингвистику, осуществляющую динамический подход, как науку о коммуникативном поведении человека или, точнее, о деятельности человеческого общения. Это определение ставит в центр исследования человека в его отношениях к языку, но не замыкается только данными координатами (человек - язык), а предполагает также и исследование форм общения человека с машиной, что является важнейшей комплексной проблемой многих наук, но в первую очередь все же лингвистики*.
* (См. заявление К. Шеннона, сделанное им в интервью: "Мне трудно взять на себя смелость выделить самую главную проблему для всей кибернетики. Позвольте мне лучше рассказать вам о проблеме, которая более всех других волнует меня. Это - общение человека с машиной. Дело в том, что детища нашего разума мыслят совсем по- другому, чем мы,- строго логично, без всяких метафор и ассоциаций. Им поэтому непонятен ни один живой язык - он для них слишком образен, неточен. Почти любая разговорная фраза может быть понята по-разному, а у машины пока еще нет интуиции, чтобы из возможных значений фразы выбрать единственно нужное" ("Литературная газета" от 22 мая 1965 г.). )
Это определение предполагает и переосмысление установившихся в науке представлений, сдвига многих акцентов в исследовательской практике. При изучении языка как "результативного" образования он неизбежно мыслится вне человека, и человек по отношению к языку есть лишь передатчик либо психологических категорий (при рассмотрении человека в индивидуально-психологическом аспекте), либо социальных категорий (при истолковании человека в социальном плане). Соответственно задача исследования заключается в прослеживании проецирования этих категорий на плоскость языка. При изучении языка не как "результативного" образования, а как деятельности общения, не как состояния, а как процесса, язык - не сам по себе, хотя он объективно данное явление: он - и особый мир, и человеческая мысль, и человеческое поведение, и специфическая структура. Иными словами, он - не вне человека, а часть человека в силу того обстоятельства, что лишь через посредство человека обусловливаются все указанные метаморфозы языка.
Другое следствие нового подхода к изучению языка заключается в том, что язык не должен рассматриваться и изучаться в искусственной изоляции от других видов коммуникативного поведения человека, с которыми язык в процессе своего функционирования постоянно взаимодействует. Это обстоятельство становится все более и более очевидным. Как пишет Д. Хаймз: "Сосредоточивание внимания исключительно на лингвистическом коде теперь постепенно заменяется все более действенным сознанием того, что лингвистический код - всего лишь один из нескольких кодов, что членораздельная речь - лишь один из модусов коммуникации, неразрывно связанной в одно целое с рядом других подобных модусов"*. Такого рода "действенным сознанием" порождены новые дисциплины, направленные на изучение других компонентов коммуникативного поведения человека,- кинесика, или изучение общественной сигнификации телодвижений, построенное по принципу лингвистических моделей, и паралингвистика, или изучение всех коммуникативных свойств голоса, кроме его собственно лингвистических функций**.
* (Д. X. Хаймз, Общение как этнолингвистическая проблема, "Вопросы языкознания", 1965, № 2, стр. 103.)
** (См. книгу "Approaches to Semiotics" (The Hague, 1964), содержащую материалы конференции по паралингвистике и, кинесике, которая имела место в 1962 г. в Индианском университете. Сборник включает следующие доклады: П. Освальд, Как пациент сообщает доктору о своих болезнях; Г. Мальи Г. Шульце, Психологические исследования в экстралингвистической области; А. Xайз, Паралингвистика и кинесика: педагогические перспективы; В. Бэрре, Паралингвистика, кинесика и культурная антропология; Ю. Станкевич, Проблемы эмотивного языка; М. Мид, Последовательность в изучении тотальных коммуникационных процессов.)
Наконец, третьим и, может быть, наиболее важным следствием нового подхода является необходимость пересмотра и эмпирического изучения понятий, которые до последнего времени использовались в значительной мере как теоретические постулаты или же интуитивные построения, не имеющие строгого формулирования. К ним относятся: речевая общность, или речевой коллектив, престиж языка, культурная ценность языка, речевой, или языковой, акт и т. д.
Все это, разумеется, находит отражение в выдвижении совершенно новой проблематики исследовательских работ. Всю ее обозреть здесь невозможно, но на некоторых новых проблемах представляется необходимым остановиться, и главным образом на тех, которые в наибольшей мере отражают новый подход к изучению языка. Следует при этом отметить их общие качества - практическую направленность, широкое привлечение новейших данных различных наук и обращение к помощи таких наук, которые "традиционно" стояли на противоположном полюсе в общей классификационной шкале человеческих знаний. Легко заметить, что это как раз те качества, которыми характеризуется прикладная лингвистика.
Бесспорно, первой из такого рода проблем является проблема языка как деятельности. Необходимо знать, что собой представляет язык как деятельность, каковы его свойства и возможности,- тут еще много неизвестного, но ясно одно: определение языка как деятельности не может совпадать с определением языка как состояния ("результативного" образования). Констатирование же того, что язык есть средство общения и орудие мышления, не отвечает еще на поставленные вопросы - язык используется в этих областях человеческой деятельности, но, как только мы вознамеримся получить ответ хотя бы на один из поставленных вопросов,- например, каковы здесь возможности языка,- мы столкнемся с путаной многоголосицей противоречивых мнений. Здесь нужна одна оговорка. Вступая на этот малоизведанный путь, мы должны с самого начала отклонить вопрос о том, что "важнее" - определение языка как "результативного" образования или как деятельности. Если мы согласимся с тем, что одно столь же важно, как и другое, это будет достаточным основанием для того, чтобы уделять необходимое внимание и одному и другому.
Исследование языка как деятельности требует особой методики. Ведь качества всякого механизма определяются в его действии. Достоинства и недостатки механизма устанавливаются сравнением его действия с действием других механизмов того же назначения. Но действие механизма обусловливается его конструктивными особенностями (структурой), к которым мы обращаемся, как только задаемся целью выяснить, чем объясняются достоинства и недостатки механизма. Ознакомление же с конструкцией механизма без проверки его в работе мало что дает для установления его качеств.
Все эти общие соображения применимы и к языку. Ни исторический, ни структурный подход сами по себе не дают возможности познать "рабочие" возможности языка. Необходимо проверить его действие и от действия уже обращаться к структуре, соотнося одно с другим, а о качествах, особенностях и возможностях языка судить посредством сравнения его с "механизмами" того же порядка. Вот тут мы и приближаемся к новой постановке в исследовании языка, которая привлекает к себе все больше и больше внимания.
Главная особенность нового подхода заключается в том, что предметом изучения должен быть не русский, английский, японский и прочие конкретные языки и не отдельные их объединения (индоевропейские, тюркские и прочие семейства), а человеческий язык, и притом в его деятельности. В такого рода изучении два пути.
- Первый из них - типологическое изучение, не ради создания удобной и возможно менее произвольной классификационной схемы для упорядочения всего языкового хозяйства (такая задача сама по себе, разумеется, также заслуживает всяческого внимания), а ради выявления лингвистических универсалий, т. е. черт, которые характеризуют человеческий язык в целом. Этот путь с интересующей нас точки зрения обладает, однако, двумя существенными недостатками (хотя миновать его никак нельзя). Тот метод, которым обычно проводятся типологические исследования, имеющие целью выявление лингвистических универсалий, лишен динамичности: изучаются структуры языков, а не их общие "рабочие" возможности. Иными словами, мы в результате получаем статические, а не динамические универсалии (так называемые "диахронические" универсалии, конечно, не подходят под категорию динамических в указанном выше смысле). Второй недостаток заключается в том, что типологическое изучение конкретных языков не дает возможности выявления универсалий человеческого языка в целом или, точнее, достаточно полного их познания.
Ведь до тех пор, пока мы рассматриваем человеческий язык изолированно, как единственный и неповторимый предмет, мы не имеем возможности достаточно полно его оценить. Достоинства и недостатки познаются в сравнении. Нос чем же сравнивать человеческий язык? С "механизмами" того же назначения, т. е. языками других существ, использующими "механизмы" того же порядка, что и человеческий язык. Так возникает второй путь.
"Языки" животных далеко не новая проблема для науки. Но изучались они исходя из метафорического истолкования языка, с позицией и через призму особенностей человеческого языка. А "язык" животных, конечно, нельзя мерить критериями человеческого языка, так как то, что мы называем у животных "языком", может исполнять совершенно иные функции, например быть средством общения, но не орудием мышления. Кроме того, такой антропоморфический подход, сводящий все характеристики "языков" животных к единому потенциалу человеческого языка, не дает возможности выявления особенностей этого последнего. Впрочем, в последнее время перед изучением "языков" животных стали ставить новые цели, имеющие более прикладной характер, чем те исследования в этой области, которые проводились ранее. Они-то в какой-то мере и прокладывают этот новый путь, хотя и не имеют перед собой такой целеустановки.
В одном случае говорится об изучении "языков" животных с целью налаживания общения с этими животными. В этом направлении проводятся уже конкретные опыты и делаются на их основании оптимистические выводы. Так, энтузиаст этого нового направления исследований Дж. Лилли пишет: "В течение ближайших 10-20 лет человечество наладит связь с представителями других биологических видов, т. е. не с людьми, а с какими-то другими существами, возможно, не наземными, скорее всего морскими, но наверняка обладающими высоким уровнем умственного развития или даже интеллектом"*. В работах Дж. Лилли привлекает то, что он пытается преодолеть высокомерность человеческой точки зрения на животных и изучить "язык" дельфинов (которыми он занимался) вне человеческих рамок. "Мы должны,- настаивает он,- по возможности ос- водиться от наших априорных представлений о месте Homo sapiens в природе. Мы привыкли считать человека главенствующим видом на суше. Если мы хотим найти способы общения с другими видами, то необходимо прежде всего допустить, что какие-то виды могут потенциально (или даже реально) обладать умственным развитием, сравнимым с нашим"**. И несколько ниже он набрасывает программу работ в этой области: "Найдя такой вид, надо попытаться определить, обладают ли его представители внутривидовым языком. Если мы не знаем о существовании такого языка, то какие анатомические признаки и особенности поведения делают его существование в высшей степени вероятным?
* (Дж. Лилли, Человек и дельфин, М., 1965, стр. 9. )
** (Дж. Лилли, Человек и дельфин, М., 1965, стр. 11. )
Затем необходимо установить, можно ли представителей других видов обучить человеческому языку. В своем невежестве мы привыкли считать, что если у какого-либо животного есть свой собственный язык, то ему будет легче обучиться нашему. Но это вовсе не обязательно.
Наш язык может оказаться настолько чуждым такому животному, что оно будет вынуждено переучиваться и не сможет сделать это. А если у животного нет своего языка, то оно, подобно ребенку, потенциально способно обучиться языку человека, оно сможет сделать это скорее и легче, будучи свободным от влияния языка, усвоенного ранее"*.
* (Там же, стр. 12 )
Изучение в этом плане различных внутривидовых языков может дать много материала для сравнения с внутривидовым языком Homo sapiens и выявлением посредством этого сравнения особенностей этого последнего языка. Но сам Дж. Лилли ставит перед собой практически более близкие цели - использование дельфинов (и других животных) с помощью языка для мирных и военных задач, хотя и выражает при этом благочестивую надежду, что когда межвидовые контакты будут установлены и "исследования в этой области перейдут из ведения ученых в ведение сильных мира сего", то они "будут осведомлены относительно этих новых научных достижений немного лучше, чем были осведомлены в 1945 году в области прикладной физики"*.
* (Там же, стр. 10.)
В другом случае изучение "языков" животных рассматривают как промежуточное и экспериментальное звено в подготовке человека к встрече с инопланетными обитателями - опыт общения человека с высшими животными должен создать основу для построения языка потенциальных межпланетных общений. Пожалуй, это слишком далеко вперед смотрящая проблематика. Кстати говоря, существуют .уже практические попытки создания "лингва космика" - космического языка и иными путями - не через посредство налаживания сперва . связи с высшими животными, а на математической основе, исходя из предположения, что математические категории должны носить универсально космический характер*. Возможно, это и так, но для вынесения решительного суждения по этому поводу у нас пока нет никаких данных. Что же касается математического подхода к изучению "языка" животных, то он, видимо, едва ли сулит какие-либо перспективы.
* (См.: Н. Freudenthal, Lincos. Design of a Language for Cosmic Intercourse, Amsterdam, 1960. )
В первую очередь изучение "языков" животных необходимо, однако, ради самого человеческого языка, чтобы посредством сравнения его с другими "механизмами" того же порядка познать возможно глубже его природу и с возможной полнотой установить его "рабочие" возможности, его роль в жизни человека, все многообразие его параметров. В конечном счете такого рода изучение, как показывает это примерное перечисление, может иметь очень широкие перспективы. Оно должно, в частности, дать ответ и на вопрос: "существуют ли какие-нибудь новые и важные психологические процессы, возникающие благодаря языку, которые нельзя рассматривать как средства, увеличивающие активность неречевых процессов?"*. В самой формулировке данного вопроса уже ясно проступает негативное отношение к решению его, предложенному рядом психологов. Оно высказывается и явно. Так, Г. Ниссен пишет: "... язык, по-видимому, не вводит в действие никаких подлинно новых психологических процессов; он может рассматриваться скорее как средство или технический прием, который чрезвычайно увеличивает скорость и эффективность процессов, уже имеющихся в какой-то степени и у бессловесных животных"**. Уже и теперь в распоряжении лингвистов есть достаточно доводов, чтобы опровергнуть этот вывод, сводящий различие человеческого языка и "языков" животных лишь к количественному моменту. Но он чрезвычайно характерен, так как основывается на явно недостаточном знании "рабочих" возможностей человеческого языка. Такое же откровенное невежество проявляется и у тех исследователей, которые с легким сердцем берутся моделировать язык, не имея ясного представления о его функциях, возможностях и роли в структуре сознательного и бессознательного поведения человека. Главная вина за это невежество лежит, конечно, на самих лингвистах. Они не только не дали достаточно четких определений всех этих параметров человеческого языка, но фактически и не приступили к изучению его с того конца, который может обеспечить накопление необходимых знаний указанного порядка.
* (Дж. Миллер, E. Галантер и К. Прибрам, Планы и структура поведения, М., 1965, стр. 151. )
** (Н. Nissеn, Axes of Behavioral Comparasion. В кн.: "Behavior and Evolution", ed. by A. Roe and G. Simpson, New Heven, 1958.)
То немногое, чем мы располагаем в данной области, носит преимущественно гипотетический характер, хотя и опирается на значительное количество экспериментальных работ, проводимых либо психологами, либо зоологами и, самое главное, не ставящих перед собой той задачи сравнения человеческого языка с "языками" животных, о которой говорилось выше*. Тем не менее и это немногое способствует уже более глубокому познанию человеческого языка и установлению в нем новых аспектов, которые удается вскрыть именно через посредство сравнения с "языками" животных. Познакомимся с некоторыми наблюдениями, сделанными таким путем.
* (См., например, классическую работу о пчелах: К. von Frisch, Bees: Their Vision, Chemial Senses and Language, New York, 1950, и обобщающий труд: M. Lindaue r, Communication Among Social Bees, Cambridge, Mass., 1961. Лингвистическое осмысление данных К. Фриша о языке пчел см. в' работах: Е. Benveniste, Communication animal et langage human, "Diogene", 1952, Nov., pp. 1-8; А. Kroeber, Sign and Symbol in Bee Communication, "Proceedings of the National Academy of Sciences", 1952, vol. 38, pp. 753-757; J. Greenberg, Language and Evolution. В сб.: "Evolution and Anthropology: A. Centennial Appraisal", Washington, 1959.)
Так, Б. Мальмберг, касаясь этого вопроса*, исходит Из определения языка как набора произвольных, социально условных знаков и считает, что это определение приложимо и к "языкам" некоторых животных. Правда, "разговор" животных в основном конструируется из сигналов в том смысле, который вкладывает в него К. Бюлер (см. IX главу его Sprachtheorie), но это не противоречит тому, чтобы истолковывать этот "разговор" как лингвистическое явление. Ведь, по Мальмбергу, всякий коммуникационный процесс состоит не только из символов и симптомов, но и из сигналов. Таким образом, различие между человеком и животными в лингвистическом отношении подобно различию человека на разных ступенях его духовного развития - это различие в степени, а не в принципе. В полном противоречии с этим заключением стоит утверждение Б. Мальмберга, что символы не образуют основы для создания понятий и поэтому животные едва ли обладают способностью к абстрагированию, что является предпосылкой для образования понятий. Уже в этом есть все основания усмотреть различие принципов.
* (См. главу "Primitive Structures and Defective Language" в его ntnre "Structural Linguistics and Human Communication", Berlin - Gottingen-Heidelberg, 1963)
Бесспорные противоречия обнаруживаются и в дальнейших рассуждениях Б. Мальмберга по данному поводу. Он полагает, что нет никаких оснований отказывать сигналам животных в дискретном характере и в сложном их строении, указывающем на наличие определенного синтаксиса. Но вместе с тем по ходу всего изложения получается так, что этот дискретный характер относится только к "плану содержания", так как этой дискретности (т. е., как говорит Б. Мальмберг, способности использовать такие "фигуры" как фонемы, кенемы, просодемы и т. д.) лишен "план выражения" коммуникативной системы животных. Подобные "фигуры", не наделенные конкретной семантикой, представляют механизм, посредством которого и создаются дискретные единицы "плана выражения", и их-то недостает "языкам" животных, вследствие чего они не представляют членораздельных систем. Здесь явный, как принято говорить, отрыв формы от содержания. Форма и субстанция, как справедливо утверждает Э. Бенвенист, членятся одновременно. Если возможно обнаружить дискретность "плана содержания", то она может быть обусловлена лишь дискретностью "плана выражения". Но если нет дискретности в "плане выражения", то ее не может быть и в "плане содержания". Однако, по Мальмбергу, лишь отсутствие дискретности в "плане выражения" в "языках" животных образует демаркационную линию, отделяющую их от человеческого языка.
С большей систематичностью разбирает этот вопрос Ч. Хоккет*. Он с полным основанием включает его в более широкий контекст и полагает, что отличие языка человека от любого вида коммуникативного поведения живых существ, не принадлежащих к Homo sapiens, следует рассматривать лишь как часть общей проблемы различий между человеком и животными. Однако он ограничивается этим заявлением, а свой анализ целиком посвящает "языкам" животных в их сопоставлении с человеческим языком. В качестве исходного положения своего анализа он принимает следующее определение коммуникации: к коммуникативному поведению следует отнести такие акты, посредством которых один организм побуждает к действию (triggers) другой организм. Легко заметить, что это определение не является оригинальным. Оно использует формулу, с помощью которой лингвистический бихевиоризм (см. работы Л. Блумфильда) определяет человеческий язык.
* (См. раздел 64: Man's Place in Nature. В кн.: Ch. Носkеtt, A Course in Modern Linguistics, New York, 1958. )
Затем Ч. Хоккет подвергает рассмотрению "языки" некоторых животных, особое внимание уделяя вопросу, каким образом "усваивается" язык - генетически (как наследуемые инстинкты) или же посредством обучения. В этом плане он анализирует коммуникативное поведение пчел, рыб (колюшка), чаек и обезьян из породы гиббонов.
Рабочая пчела передает другим пчелам информацию относительно обнаруженного ею нектара посредством "танца": одна из его фигур указывает направление (относительно местоположения роя), а другая - расстояние. Семантическая система информационного "танца" наследуется с генами и не есть следствие обучения.
Самец рыбы-колюшки в брачный период строит на дне водоема гнездо, затем плывет наверх. Подкараулив самку, он исполняет вокруг нее зигзагообразный "танец", после которого самка послушно следует за самцом к гнезду. Так же, как у пчел, "язык" передается генетически, а не посредством обучения.
Вскоре после того как из яиц чайки вылупляются птенцы, родители выводка поднимаются и оставляют птенцов. Птенцы начинают клянчить пищу, стремясь легкими клевками попасть в клюв родителей. Те реагируют на это тем, что отрыгивают кусочек полупереваренной пищи и, держа его в кончике клюва, предлагают птенцу. Птенец продолжает свои клевообразные движения, пока не ухватит и не проглотит пищу. Тогда родители предлагают другой кусочек, пока птенцы не прекратят своей коммуникативной деятельности. Вся последовательность этого "разговора" носит генетический характер, но в более успешном выполнении клевообразных движений отдельными птенцами можно обнаружить элементы научения.
Гиббоны стимулируют друг друга разнообразным образом - и позированием и жестами, но ближе всего к языку приближается их общение посредством системы коммуникативных выкриков. Исследования показали, что у гиббонов можно выделить по крайней мере девять выкриков, различающихся по звукам, последовательности звуков и семантике*. В коммуникативном отношении наиболее характерной особенностью этих сигналов является отсутствие у них гибкости. Каково бы ни было их действительное количество, оно очень мало и - самое главное - конечно (Н. И. Жинкин характеризует звуковые сигналы обезьян как "не расширяющуюся систему"). Гиббон не реагирует на изменение ситуации созданием нового вида сигнала, построенного из частей двух или нескольких сигналов, которыми он располагает. Все, на что он способен,- это варьирование громкости или количества повторений сигнала. Но различные стаи обезьян обладают некоторыми локальными особенностями в произношении сигналов. В этом можно усмотреть элементы культурной пере дачи, т. е. изучение системы молодыми обезьянами и преподавание ее старыми.
* (И. И. Жинкин, занимавшийся изучением голосовых звуков гамадрилов, обнаружил у них семь слогов (у обезьян имеет место "образование всегда одного и только одного слога за счет нерегулируемой энергии всей дыхательной системы"), которые можно рассматривать как элементы звуковой коммуникации и условно назвать "словами" (Н. И. Ж и н к и н, Звуковая коммуникативная система обезьян, "Известия АПН РСФСР", вып. 113, 1960). Изучению акустического поведения животных (биоакустике) посвящен сборник "Acoustic Behaviour of Animals", ed. by R. G. Busnel, Amsterdam-London-New York, 1963. Японские ученые установили, что у макак существует более тридцати криков-"слов".)
Дальнейший анализ Ч. Хоккет строит таким образом, что он дает возможность установить, чем "языки" животных отличаются от человеческого языка, но его метод мало способствует познанию человеческого языка, как такового. Иными словами, он придерживается старого метода антропоморфирования внечеловеческих явлений. Ч. Хоккет, исходя из человеческого языка, устанавливает семь черт (параметров) человеческого языка и затем накладывает их на "языки" описанных выше животных. В результате мы получаем характеристику отдельных "языков" животных с точки зрения человеческого языка, а что касается принципиальных различий между коммуникативным поведением человека и животных, то они сводятся к одному постулату: человеческий язык обладает полным набором выделенных черт, а "языки" животных - неполным, а только частью его (в разных комбинациях). И все же набор выделенных Ч. Хоккетом черт представляет бесспорный интерес, так как дает общее представление об особенностях коммуникативного поведения человека. Этот набор включает следующие черты: двойственность, продуктивность, произвольность, взаимозаменяемость, специализация, перемещаемость (возможность перестановки во времени и пространстве) и культурная передаваемость.
В основном все эти черты ясны для лингвиста, и только некоторые из них требуют краткого комментария. Под двойственностью Ч. Хоккет понимает способность языка разлагаться на единицы двоякого порядка - фонемы и морфемы (нечто вроде двойного членения Мартине). С тем чтобы придать этим категориям единиц более общий характер (ориентировать их не только на человеческий язык), Ч. Хоккет предлагает фонологический уровень именовать кинематикой, а морфологический - плерематикой. Под специализацией разумеется ориентация на собственно коммуникативные цели тех или иных физических действий, обладающих первичной функцией (коммуникативные функции оказываются, таким образом, вторичными). В соответствии с культурной передаваемостью коммуникативные навыки передаются из поколения в поколение посредством обучения. Итоговая таблица черт применительно к рассмотренным языкам приведена на стр. 172.
Впоследствии Ч. Хоккет увеличил число черт (параметров) языка, которые представляют у него фактически универсалии человеческого (внутривидового) языка, до тринадцати*. Но и их, видимо, нельзя признать исчерпывающими. Так, например Т. Сибеок добавляет к ним еще потенциальную многокодовость, т. е. способность переводиться с одного набора вербальных сигналов (речь) на другой набор (письмо). Следует, однако, думать, что действительно адекватную систему универсальных параметров человеческого языка можно будет построить только в результате широкого неантропоморфированного сравнения с "языками" животных, с одной стороны, и лишь в контексте всей структуры коммуникативного поведения - с другой.
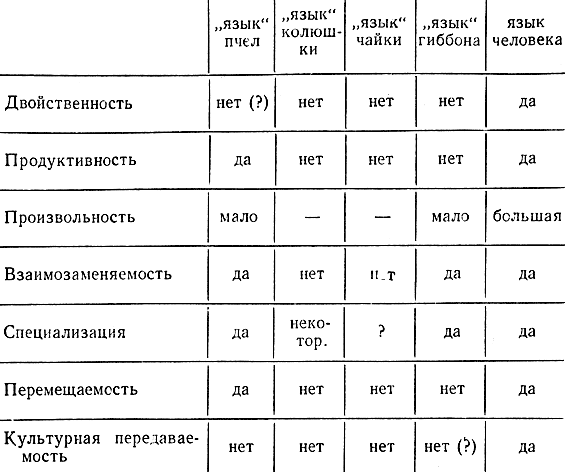
* (См.: Ch. Носkеtt, The Origin of Speech, "Scientific American", 1960, vol. 203, pp. 89-96; Logical Consideration in the Study of Animal Communication. В кн.: "Animal Sounds and Communication", ed. by W. Lanyon and W. Tavolga, Washington, 1960.)
В последние годы делаются попытки рассмотреть проблему коммуникативного поведения (или "языков"; животных и его отличия от человеческого языка исходя из категорий теории информации или кибернетики и теории счетно-решающих устройств. В качестве примера первого подхода можно привести работу А. Моля "Язык животных и теория информации"*, где "язык" животных исследуется с точки зрения приложения к ним категорий канала, проводящего информацию, общего репертуара информационных единиц, избыточности иерархии репертуара. К этому направлению следует отнести и оригинальную работу Н. И. Жинкина, обосновывающую приложение теории алгоритмов к изучению речи животных**. Второй подход, пожалуй, наиболее полно находит свое выражение в работе Т. Сибеока "Информационная модель языка: кодирование по аналоговому и дискретному принципам в животной и человеческой коммуникации"***.
* (A. Moles, Animal Language and Information Theory. В кн.: "Acustic Behaviour of Animals", ed. by R. Busnel, Amsterdam, 1963. )
** (N. Zhinkin, An Application of the Theory of Algorithm to the Study of Animal Speech. В кн.: "Acustic Behaviour of Animals", ed. by R. Busnel, Amsterdam, 1963. )
*** (Th. Sebeok, The Informational Model of Language: Analog and Digital Coding in Animal and Human Communication. В Кн.: "Natural Language and the Computer", ed. by P. Garvin, New York, 1963.)
Т. Сибеок исходит из предположения, что речевая коммуникация может изучаться как информационная система, а естественный язык как код, используемый в этой системе. Эта предпосылка представляет то обязательное формулирование исследуемого предмета, которое предваряет любой подход к рассматриваемой проблеме. В соответствии с указанной формулировкой Т. Сибеок считает полезным, с одной стороны, изучить человеческую коммуникацию с точки зрения отношения ее к аналоговому и дискретному принципам кодирования и, с другой стороны, сравнить человеческую и животную системы коммуникации под углом зрения способа, которым они кодируют информацию. При этом Т. Сибеок делает допущение, что ни один из лингвистических атрибутов не является уникальным для человека и что человеческий язык отличается от "языка" других живых существ лишь уникальной способностью к комбинации характеристик, или, другими словами, комплексной формой кодирования, позволяющей удовлетворить все потребности. человеческой коммуникации. Применительно к исходным положениям своей работы Т. Сибеок раскрывает данное допущение следующим образом: живые сушества, находящиеся на уровне ниже человеческого, общаются посредством знаков, которые большей частью кодируются по аналоговому принципу, а в человеческой речи (в противоположность мнению некоторых лингвистов) одна часть информации кодируется по аналоговому принципу, а другая - по дискретному. Дискретный механизм речи можно, таким образом, рассматривать как позднюю ступень в полигенетическом развитии и, может быть, как уникальное качество человека. При этом эмоции, как правило, кодируются по аналоговому принципу, а "рациональные" элементы человеческой психики - по дискретному.
В дальнейшем изложении своей работы Т. Сибеок рассматривает вопрос о коммуникативных функциях, обращаясь, таким образом, к коммуникативным универсалиям (которые, видимо, не следует отождествлять с универсалиями языка), и с этой более широкой позиции устанавливает различие между человеком и "субчеловеческими" существами. К этим функциям (выделенным разными учеными) относятся:
- Эмотивная (выражающая чувства; Дж. Трейгер именует изучение явлений, относящихся к этой функции, паралингвистикой*).
- Фатическая (Б. Малиновский писал о "фатическом общении, типе речи, при котором связь создается посредством простого обмена"** репликами без обращения к их смысловому содержанию).
- Познавательная.
- Конативная (вокативная и императивная).
- Поэтическая.
- Металингвистическая (дающая возможность перевода одного лингвистического знака в другой).
Первые две функции (эмотивная и фатическая), по Т. Сибеоку, встречаются также и у "субчеловеческих" существ***.
* (См.: G. Ткagек, Paralanguage: A First Approximation, "Studies in Linguistics", 1958, vol. 13, pp. 1-12. )
** (B. Malinowski, The Problem of Meaning in Primitive Languages. Приложение к книге: С. Оgden and I. Riсhards, Meaning of Meaning, London, 1923. )
*** (Эта точка зрения разделяется не всеми лингвистами. Р. Якобсон, например, пишет, что "фатическая функция языка является единственной, которую разделяют с человеком они", имея в виду птиц, обученных человеком говорить. И добавляет, что это "первая вербальная функция, приобретаемая ребенком" ("Linguistic and Poetics". В кн.: "Style in Language", ed. by Th. Sebeok, New York, 1960, p. 356).)
В пользу наличия фатическиx форм языка у животных высказывается профессор зоологии Мичиганского университета М. Бэйтс. Он пишет: "Во всякой стае или стаде существует множество звуков, которые можно назвать "разговорным клекотом"; он развился из сигналов между матерью и детенышами. Обмен звуками всегда создает приятное ощущение близости у присутствующих, идет ли речь о наседке с цыплятами или о салонном обществе. Разговорный клекот не несет никакой информации, представляет то, что в теории информации называется шумом, однако он играет важную роль, в известной мере усиливая чувство принадлежности к коллективу" ("Язык животных", "Америка", № 108, стр. 52).
Вторые две (познавательная и конативная), возможно, встречаются у них. И, наконец, две последние (поэтическая и металингвистическая) являются бесспорной принадлежностью лишь человека.
Соображения, высказанные Т. Сибеоком, вне всякого сомнения, способствуют более глубокому познанию проблемы, являющейся центральной для изучения языка как деятельности, а его подход обладает рядом преимуществ сравнительно с подходами Б. Мальмберга и Ч. Хоккета, но, разумеется, отвечает не на все вопросы. Впрочем, он и не претендует на исчерпываемость. Рассмотрение же высказываний всех трех авторов в целом позволяет сделать некоторые заключения общего порядка.
Бросается в глаза, что во всех рассмотренных выше работах (а также и не рассмотренных здесь) довольно свободно и недифференцированно чередуются термины "коммуникация", "язык" и "речь"*. Другая их особенность заключается в том, что все они исходят из некоего исходного определения, которое у различных авторов далеко не одинаково, что в известной мере обусловливается указанным отсутствием дифференциации. И, наконец, в-третьих, "языки" животных обычно выступают хаотически сваленными в одну кучу. Это молчаливо предполагает, что они не могут иметь качественных различий между собой, и при противопоставлении человеческому языку выступают как однородная масса. С тем, чтобы сделать рабочую методику в данной области более целеустремленной, необходимо произвести упорядочение в этих трех направлениях.
* (См. в связи с этим вопросом: G. Мiller, On Human Communication, New York -London, 1957; N. I. Zinkin, Four Communicative Systems and four Languages, "Word", vol. 18 (1962 г.), № 1-2. )
Применительно к сравнительному изучению "языков" животных и человеческого языка предпочтительно говорить не о языке, а о коммуникации. Уже это терминологическое уточнение будет способствовать освобождению от антропоморфических созначений, которыми сопровождается термин "язык". Оно дает и больше возможностей для достижения единого исходного определения, которое будет служить общей методической основой для различного рода конкретных исследований. В качестве такого рода рабочего исходного определения может служить следующее: коммуникация - это определенная поведенческая структура, посредством которой одно живое существо передает другому живому существу информацию относительно объективных (внешний мир) или субъективных (чувства) явлениях. Соответственно деятельность общения (коммуникативная деятельность) - это деятельность, служащая этим целям и укладывающаяся в эту структуру. Так как употребление в данных определениях таких слов, как "служащая", может подать повод к заключению, что деятельность общения обязательно должна носить намеренный и сознательный характер, с самого начала следует оговориться, что она может быть намеренной, но может быть и ненамеренной- это частные особенности различных внутривидовых коммуникаций, и они не должны входить в общее определение. Указанное определение, как представляется, достаточно четко устанавливает и нижний предел (что также крайне необходимо), за гранью которого уже не представляется правомерным говорить о коммуникации. Так, иногда говорят о нуклеиновых кислотах как носителях наследственной информации. Такого рода передача информации не носит формы коммуникации, так как не относится к категории объективной или субъективной в указанном выше смысле. В такой передаче информации нельзя усмотреть и поведенческой структуры.
Вместе с тем не следует отказываться и от терминов "язык" и "речь". Но они должны трактоваться как подчиненные по отношению к коммуникации понятия, истолковываться как два разных явления именно в том смысле, в каком они толкуются в настоящей книге (см. раздел "Язык и речь в их отношениях друг к другу"). Все это говорит о том, что они не обязательно оба. вместе должны присутствовать в той или иной внутривидовой коммуникативной структуре и, более того, могут служить в качестве демаркационных признаков, отделяющих одну коммуникативную структуру от другой. К такого рода заключению дают основания соображения, высказанные выше Т. Сибеоком. Он усматривает в деятельности общения животных аналоговый принцип кодирования, а в коммуникативной деятельности человека- преимущественно дискретный принцип (уникально используемый человеком) в сочетании с аналоговым. Если перевести утверждения Т. Сибеока на лингвистический язык, то это значит, что человек в своей коммуникативной деятельности использует и язык (осуществляющий дискретность) и речь (применяющую выделенные языком дискретные единицы для целей общения). А что касается "субчеловеческих" (по терминологии Т. Сибеока) существ, то они, видимо, в своей деятельности общения довольствуются лишь речью.
Такой вывод относительно коммуникативной деятельности животных полностью согласуется с наблюдением (многократно описанным в литературе), согласно которому крик животных соотносится с ситуацией в целом и не может быть расчленен на некоторое количество дискретных элементов, имеющих соотнесенность с элементами внешнего мира (первое членение А. 'Мартине) и комбинирующихся для образования новых высказываний. Правда, исследователи "языка" животных (например, обезьян) устанавливают в их криках единообразие - "фонетическое" (акустическое) и "семантическое" (соотнесенность с определенной ситуацией). На основе этого единообразия они и выделяют набор "слов" у животных. Но эти "слова" в действительности никакой дискретностью, конечно, не обладают. Использование действительно дискретных единиц в целях передачи информации в обязательном порядке предполагает наличие определенной "грамматики", на основе которой и происходит их комбинирование - ведь весь смысл дискретизации как раз и заключается в том, что она дает возможность такого комбинирования. Никакой "грамматики" в этом смысле у животных пока не было обнаружено.
Если эти предварительные соображения соответствуют действительности, разве они не дают возможности новых решений вопросов, связанных с изучением языка как деятельности?
Наконец, несколько слов о необходимости дифференциального подхода и к изучению коммуникативных структур животных. Их изучение будет, бесспорно, более продуктивным, если к ним также будет применен принцип сопоставительности. Такое сопоставительное изучение коммуникативного поведения животных, в сущности, представляет необходимый предварительный этап в сопоставительном изучении коммуникативного поведения человека и животных*.
* (Особую и чрезвычайно интересную проблему представляет изучение возможности выхода за пределы внутривидового языка, в частности в направлении от животного к человеку. Проф. Марстон Бэйтс (см. цитированную выше его статью) упоминает об одном шимпанзе, который вырос в человеческой семье, привык делать все, что делают люди, не разговаривать так и не научился. Он мог только хриплым шепотом произнести трудноразличимые "папа" и "мама". Есть данные о том, что собака часто лучше понимает человека, чем другую собаку. Так же, видимо, обстояло дело и у львицы Эльзы. Но понимание - это еще не язык.)
Учитывая, что в структуру коммуникативного поведения животных, бесспорно, входят и особенности биологического вида, сопоставительное изучение их коммуникативного поведения даст возможность не только вычленить эти особенности, но и установить тот комплекс функций, который выполняет у каждого конкретного вида их коммуникативное поведение, а также контекст его функционирования, который не может не оказать влияния на характер и самого коммуникативного поведения. На основе полученных параметров можно будет расположить коммуникативные структуры животных по определенной шкале и затем уже искать в ней место и для структуры коммуникативного поведения человека. Такая процедура фактически будет воплощать требование Ч. Хоккета - рассматривать различие коммуникативного поведения человека и животных как часть общей проблемы различия между человеком и животными.
Это было рассмотрение одного из примеров новой проблематики, порожденной подходом к языку как деятельности. Обратимся теперь к другому примеру.
На этот раз речь будет идти о роли языка в преобразовании информации - проблема, которая имеет самое прямое отношение к деятельности языка и которая способна дать весьма существенные сведения для познания природы языка (в дальнейшем мы будем иметь дело лишь с человеческим языком).
Для решения этой проблемы придется (во всяком случае на первых порах) пойти на искусственную изоляцию ее и на сравнение с работой вычислительных машин, производящих логические операции.
Фактически одно предполагает другое. Машина только преобразует информацию, и на выходе ее не может быть больше информации, чем было на ее входе. Таким образом, теория счетно-решающих устройств (да и теория информации) имеет дело лишь с преобразованием информации "внутри" машины и полностью отграничивается от теории, относящейся к источникам ее обогащения. Теория машинного преобразования информации, замкнутая пределами машины, целиком покоится на тезисе о тавтологичности всякой строго логической операции. Так как никакая машинная операция, обрабатывающая информацию, не может ее увеличить, можно сказать, что ее работа подчинена принципу сохранения информации. Этому принципу подчинены и логические формы человеческого мышления, которые именно поэтому допускают репродуцирование (моделирование) в операциях вычислительных машин.
Но человеческое мышление не ограничивается лишь логическими его формами. Если бы это было так, оно оказалось бы в кругу одного и того же количества информации, и человечество не способно было бы пройти тот путь интеллектуального развития, который оно фактически прошло. Человеку свойственны "творческие" формы мышления, которые и составляют его главную силу и которые никак не укладываются в принцип (сохранения информации), определяющий работу машины. "Вычислительная машина,- пишет в этой связи А. А. Ляпунов,- это управляющая система, действующая строго формально, по заранее заданному алгоритму, тогда как мышление - это управляющая система, функционирование которой совсем не формализовано"*. Еще более определеннее по этому поводу высказывается Н. Винер, указывающий, что в психологии мышления многое чуждо логике и что "многие психологические состояния и последовательности мыслей не согласуются с законами логики"**. Здесь уместно вспомнить и замечание Дж. Неймана, что "язык мозга не есть язык математики". Учитывая "творческие" особенности человеческого мышления, можно сказать, что преобразование им информации (в противоположность машине) подчинено принципу обогащения информации.
* (A. A. Ляпунов, О некоторых общих вопросах кибернетики. Сб. "Проблемы кибернетики", № 1, М., 1953, стр. 6. )
** (Н. Винер, Кибернетика, М., 1958, стр. 157. )
Источник этого обогащения как будто очевиден - это общественная практика и материальная деятельность людей. Из этих областей человек черпает данные для выработки новых единиц информации (понятий). Таким образом, теория, объясняющая действие принципа обогащения информации, на основе которого функционирует человеческое мышление, распространяется и на источники информации.
Но не должна ли эта теория учитывать и потенциальные возможности языка, способствующего увеличению информации добавочно к прямым источникам новой информации? Ведь человеческое мышление, связанное с понятиями, протекает в языковых формах. Неужели язык в этом случае выступает как абсолютно пассивный инструмент? Следует при этом подчеркнуть, что проблема, которая ставится этими вопросами, не имеет ничего общего с теорией "лингвистической относительности", выдвинутой гипотезой Сепира - Уорфа. Обращаясь к характеристике человеческого мышления как "творческой", не тавтологической операции, мы в данном случае должны установить, не обусловливается ли эта характеристика в той или иной мере также и "творческими" качествами человеческого языка.
Разумеется, эта проблема может быть решена лишь в результате весьма основательных и тщательных исследований, которые, конечно, выходят за пределы индивидуальных возможностей. Но некоторые общие соображения в пользу определенного ее решения все же представляется необходимым высказать. Они подсказывают положительный ответ на поставленные вопросы.
В последние годы язык многократно описывался, с одной стороны, как многоярусное (или многокодовое) явление, асдругой - как семиотическая система. Так, например, описание языка как иерархии кодов мы находим в приводимых уже словах Р. Якобсона: "Язык никогда не является монолитным; его основной код включает ряд подкодов и такие вопросы, как правила трансформации оптимального, явно выраженного, основного кода в различной степени эллиптические подкоды, а также их сравнение в отношении количества информации требуют как лингвистического, так и инженерного исследования. Обратимый код языка, со всеми его переходами от подкода к подкоду и со всеми постоянными изменениями, которые этот код претерпевает, должен быть описан средствами лингвистики и теории связи в результате совместного и внимательного изучения"*. Если язык способен таким образом преобразовывать информацию, что в результате этого преобразования возникает новая информация, то его, конечно, нельзя определять исходя из понятия кода. Код, безусловно, лишен этой "творческой" способности - просто потому, что он абсолютно равнодушен к содержанию информации. А как раз содержание информации, ее интерпретация, отношение к ней - все это и является источником создания в пределах языка (как семиотической системы) новой информации. Лучше поэтому отказаться от понятия кода и говорить о металингвистическом качестве языка, разумея под этим способность перевода одного языкового знака в другой. В результате такого перевода мы можем перейти из одного субъязыка - стилистического, профессионального, социального и пр. - в другой или же остаться в пределах одного и того же,- все это частности, о которых еще будет сказано ниже, но все эти переходы покоятся на металингвистическом качестве языка, которое предполагает перевод содержания информации, а не придание ей разной внешней формы, подобно написанию одного и того же слова средствами русской или латинской графики. Перевод же одной группы знаков в другую неизбежно сопровождается изменением интерпретации, что и является источником новой информации.
* (Р. Якобсон. Лингвистика и теория связи. Цитировано по книге: В. А. Звегинцев, История языкознания XIX - XX веков в очерках и извлечениях, ч. 2, М., 1965, стр. 439.)
Предпосылки, объясняющие действие этого механизма, мы находим у "эксцентричного американского гения"* Ч. Пирса, заложившего своими работами основы семиотики. Положение Ч. Пирса, что "всякая мысль есть знак"**, в сущности, эквивалентно утверждению, что человеческое мышление функционирует в языковых формах (поскольку признается, что язык есть система знаков). Процесс же мышления в обязательном порядке включает интерпретацию одного знака другим - это двигающая сила мышления. Как говорит Ч. Пирс, "ни один знак не может функционировать в качестве знака, если он не интерпретирован в другом знаке (например, в "мысли", какова бы она ни была). Следовательно, для знака абсолютно существенно, чтобы он воздействовал на другой знак"***.В этих словах мы фактически имеем дело с описанием "металингвистического" механизма, посредством которого человеком добывается новая информация из уже имеющейся. Ведь (говоря опять-таки языком Ч. Пирса) "язык есть нечто, зная которое, мы узнаем нечто большее"****.
* (Т. И. Xилл, Современные теории познания, М., 1965, стр. 282. )
** (Сh. Рiеrсе, Collected Papers, vol. 1, Cambridge, Mass., § 538. )
*** (Ch. Pierce, Collected Papers, vol. 8, § 225. )
**** (Там же, § 332.)
С действием "металингвистического" механизма связан и другой процесс, обусловливающий выработку новой информации "внутри языка". Может быть, правильнее его рассматривать лишь как один из аспектов "металингвистического" процесса. Интерпретация одного знака через другой предполагает потенциальную переводимость одного знака в другой (точнее, перевод содержания одного знака в другой). А всякого рода процессы этого порядка неизбежно сопровождаются изменением отношения к знаку, поскольку у языкового знака наличествует прагматический аспект. Таким образом происходит "всасывание" прагматических элементов в область семантики знака, что и создает эффект обогащения информации.
В сущности "металингвистическая" и прагматическая переработка информации давно сознательно используется в практических и иных целях. На ней, например, построены толковые словари. Когда мы проглядываем словарную статью МИЛОСТЬ и читаем ее толкование (в сопровождении примеров): 1. Доброе, человеколюбивое отношение. Сдаться на милость победителя. 2. Благодеяние, дар. Мы не мскнсем ждать милостей от природы, взять их у нее - наша задача. 3. Благосклонность. Быть в милости у кого-нибудь,- мы фактически знакомимся с потенциальными модусами интерпретации одного знака через другие и используем их в необходимых случаях. А такая необходимость возникает обычно во всех случаях так называемого "направленного" мышления.
Очень широко используется прием "всасывания" прагматических элементов в семантику при переводе с одного субъязыка в другой. С наибольшей наглядностью этот процесс проявляется при создании поэтического произведения из материала других субъязыков. Блестящий пример анализа этого процесса мы находим в статье Л. В. Щербы "Опыт лингвистического толкования стихотворений" на материале пушкинского "Воспоминания". Во втором этюде на эту же тему он подвергает лингвистическому разбору перевод Лермонтовым стихотворения Гейне "Сосна". Здесь, как сказано, сопоставляются разноязычные варианты, но и простое сравнение перевода этого стиха разными русскими поэтами (Лермонтовым, Тютчевым, Фетом, Майковым, Вейнбергом) само по себе весьма поучительно с указанной точки зрения.
Пересказать статьи Л. В. Щербы невозможно, а отдельные цитаты из них ничего не скажут - их надо внимательно прочесть от начала до конца*. Но чтобы все-таки дать хоть один пример "магии" слов, создающих новую информацию, сравним деловой пересказ содержания одного стихотворения С. Есенина с тем, как оно преобразуется в самом стихотворении.
* (Они перепечатаны в сб.: Л. В. Щерба, Избранные работы по русскому языку, М., 1957 )
Вот пересказ (по возможности, нейтральный, констатирующий): "Я прощаюсь с тобой, милый, и буду тебя помнить. Мы еще встретимся. Не стоит грустить по этому поводу, так как то, что я делаю, далеко не ново".
А вот стихотворение: До свиданья, друг мой, до свиданья. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставанье Обещает встречу впереди. До свиданья, друг мой, без руки и слова, Не грусти и не печаль бровей,- В этой жизни умирать не ново, Но и жить, конечно, не новей.
Зная жизненный контекст этого стихотворения, зная, какие события стоят за этими, казалось бы, предельно простыми строками, мы вдобавок к поэтической "металингвистике" и прагматике самого стихотворения подключаем такое содержание, которое отходит очень далеко от констатирующего изложения описанных в стихотворении фактов.
А такими "перетолкованиями" наполнена вся наша деятельность общения посредством языка, хотя, конечно, ей и недостает силы и яркости подлинно поэтических произведений.
Приведенные два примера, как представляется, достаточно наглядно демонстрируют характер научной проблематики, порожденной подходом к языку как деятельности. Дальнейшие примеры можно найти в последующем изложении. Впрочем, и эти два примера в действительности представляют собой не отдельные и изолированные проблемы, а каждый из них - целый комплекс проблем. Так, первый пример включает и типологическое изучение языков, и выявление лингвистических универсалий, и установление природы и всей совокупности функций человеческого языка (посредством изучения его как компонента структуры коммуникативного поведения и в сопоставлении с языками животных) как для целей более глубокого познания языка, так и с точки зрения машинного их репродуцирования, и многое другое. Как видно, работа в этом направлении весьма многогранна, чрезвычайно интересна и перспективна. Но сделано здесь очень мало.
На этом можно было бы закончить изложение различий, характерных для двух подходов к изучению языка. Однако остается еще один вопрос, которого "под занавес" необходимо коснуться. Это вопрос о взаимоотношении двух описанных подходов.
В последние годы наука о языке представляет собой арену борьбы двух противоположных тенденций. Одна из них находит воплощение (говоря словами А. Мартине*) в "благочестивой надежде", что единство нашей науки будет сохранено. Другая и более энергичная - тенденция стремится разорвать лингвистику на клочки и придать этим клочкам права автономности. Хотя эта центростремительная тенденция имеет единую направленность, обусловлена она разными поводами. Одна группа языковедов озабочена тем, чтобы не пустить на выгороженный ими и возделанный знакомыми испытанными методами участок науки ничего нового или, если это неизбежно, воспринять, по возможности, минимум нового, не способного опрокинуть старых и уютных привычек и представлений. Свой спор со всем новым эта группа языковедов ведет не посредством научно обоснованных аргументов, а тем методом, которым можно вести лишь споры, например, о превосходстве православной религии над мусульманской или наоборот. В этом случае используется способ компрометирования противника: в его адрес говорятся всякие "страшные" слова или же он ставится в ряд очевидно нежелательных явлений, в результате чего и научная позиция противника приобретает явные противопоказания.
* (См.: A. Martinet, The Unity of Linguistics. Сб. "Linguistics Today", New York, 1954, p. 121. )
Из этих предпосылок делается вывод о необходимости расколоть лингвистику и предоставить ее половинкам в дальнейшем идти разными путями - "правильным" и, если уж этого очень желают некоторые, "противопоказанным".
Другая группа языковедов делает подобный же вывод, обосновывая его тем, что вводятся совершенно новые методы лингвистического исследования и описания, что, видимо, должно привести и к возникновению нового объекта изучения. Так, возникает, например, математическая, или "точная", лингвистика, противопоставляемая "неточной" лингвистике. Вариантом этой тенденции является стремление, ссылаясь на метод, увести лингвистику в чужие области. В этом случае, например, структурная лингвистика оказывается вовсе не лингвистикой, а кибернетикой или семиотикой.
Выделение двух подходов к изучению языка ни в коем случае не должно преследовать такого рода сепаратистских целей. Они могут разделиться и обособиться, если будут осуществлять свою работу независимо друг от друга, но они не должны допускать этого, так как ничего, кроме потерь, не получат от этого. На долю одного подхода достанется лишь "мертвое тело", а на долю другого - бесплотные функции. Находясь же в постоянном взаимодействии и на этом основании образуя единство, они будут обогащать друг друга и способствовать более всестороннему познанию языка.
Разделять "лингвистику деятельности" и "лингвистику состояния" столько же оснований, сколько делать разграничение между "диахронической лингвистикой" и "синхронической лингвистикой". Эти разные подходы, хотя и применяют разные методы, работают над разными группами проблем и иногда даже допускают разные определения одних и тех же фактов и явлений, имеют дело с одним и тем же объектом исследования. Поэтому как синхрония языка не существует без диахронии, так и процесса деятельности языка нельзя себе представить в отрыве от его "результативного состояния". Выше приводилась аналогия языка с механизмом и говорилось, что достоинство механизма определяется в его действии, но действие механизма обусловливается его конструктивными особенностями. Здесь уместно повторить эту аналогию.
Все это, разумеется, отнюдь не мешает раздельному рассмотрению процесса и состояния, если это диктуется частными задачами исследования. Такое вычленение отдельных аспектов исследования - обычный рабочий прием, и нет никаких оснований считать его противопоказанным лингвистике Или возводить на этом здание глубокомысленных лжеметодологических соображений.
|
ПОИСК:
|
© GENLING.RU, 2001-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://genling.ru/ 'Общее языкознание'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://genling.ru/ 'Общее языкознание'