
Язык и поведение
Теория "лингвистической относительности", в наиболее развернутом виде изложенная в работах Уорфа, в последние годы получает преимущественно негативное истолкование. Мало кто теперь придерживается точки зрения, что мировоззрение зависит от языка и потому относительно, т. е. меняется от языка к языку. Вот два характерных, хотя и не совпадающих во всем, высказывания по этому поводу.
"Согласно моей точки зрения на лингвистическую относительность,- пишет Дж. Кэрролл,- умственные операции в основном независимы от языка, в котором они реализуются, хотя они могут подвергаться известным трансформаниям, когда индивид переходит от одного языка к другому. Видимо, подлинный билингвизм возможен, когда индивид овладевает этими трансформациями.
Различия в языках не приводят к различиям умственного взгляда, или Weltanschaung'a, точно так же и мировоззрения отнюдь не связаны с конкретными языками. Те, кто выражают тревогу по поводу распространения английского или какого-либо иного языка, могут быть заверены, что нет никаких оснований думать, что язык, подобно троянскому коню, способен протащить с собой определенное мировоззрение. Это, конечно, не значит, что пользующиеся языком не могут иметь определенного мировоззрения, но если они его имеют, оно скорее всего обусловлено социальными и историческими факторами, а не языком"*.
* (J. Carroll, Linguistic Relativity, Contrastive Linguistics and Language Learning, "Iral", 1963, vol. I, No. 1, p. 19. )
Второе высказывание принадлежит Джону Лотцу. Он пишет: "Серьезные вопросы могут быть также подняты в связи с ныне популярными рассуждениями по поводу того, в какой мере язык определяет наше мировоззрение. Есть все основания полагать, что привычные модели родного языка оказывают сильное влияние на поведение индивида. Но точно так же ясно, что язык не смирительная рубашка и что за пределами формирования выражений, продиктованных лингвистической традицией, постоянно происходят новые образования - в поэзии, в науке и в каждодневном употреблении"*.
* (J. Lоtz, Linguistics: Symbols Make Man. В кн.: "Psycholinguistics. A Book of Readings", New York, 1961, pp. 12-13. )
Уже и приведенные цитаты, а также разбор других работ, посвященных данной проблеме*, и внимательный анализ статей самого Б. Уорфа показывают, что в теории "лингвистической относительности" в действительности перемешаны три разные проблемы, которые относятся к разным наукам и которые надлежит поэтому рассматривать раздельно.
* (Наиболее полно проблема "лингвистической относительности" разбирается в следующих книгах: G. Mounin, Les problemes theoriques de la traduction, Paris, 1963 (в связи с проблемой перевода); Adam Sсhaff , JQzyk a poznanie, Warszawa, 1964.
См. также: В. А. Звегинцев, Теоретико-лингвистические предпосылки гипотезы Сепира - Уорфа. Сб. "Новое в лингвистике", вып. I, М., 1960; его же, Очерки по общему языкознанию (раздел "Роль языка в процессах познания"), М., 1962).
Во-первых, гносеологическая проблема взаимосвязи языка и мышления или языка и познания. Она носит скорее философский, нежели лингвистический характер. Если она все же рассматривается под лингвистическим углом зрения, она принимает форму функционального изучения значения (см. выше соответствующий раздел).
Во-вторых, проблема многообразия языковых средств выражения действительности. Это - собственно лингвистическая проблема, и рассматривается она обычно в сопоставительном плане (несколько языков), хотя иногда, как это, например, имеет место у Л. Вайсгербера, замыкается рамками одного языка*. Нередко эта проблема сводится к отношению субстанции (континиума действительности) и языковой формы, которая в виде сети отношений накладывается на субстанцию и посредством этой операции создает семантические дискретные единицы, не совпадающие по своему смысловому содержанию от языка к языку**. (Подробнее об этом см. в разделе "Значение как факт языка и как факт речи".)
* (См.: L.Weisgerber, Von den Kraften der deutschen Sprache, I, Aufl. 1-4, Diisseldorf, 1949-1950. )
** (CM.: Л. Ельмелев, Пролегомены к теории языка. Сб. "Новое в лингвистике", вып. I, М., 1960. )
Наконец, в третьих, проблема влияния языка на поведение человека. Это в основном психологическая проблема, но обойти ее не может и лингвист, так как она составляет часть большой проблемы, которую можно назвать "Человек и язык". Ее можно решать как в сопоставительном плане, так и на материале одного языка.
В настоящем разделе речь будет идти именно об этой третьей проблеме.
На вопрос, влияет ли язык на поведение человека, может быть лишь безоговорочно положительный ответ. Язык есть субстрат интеллектуальной деятельности человека. Так же как для физической жизни человека необходима воздушная атмосфера, так и для духовной жизни человека необходима лингвистическая среда. Это и обусловливает многообразный и многоликий характер воздействия языка на поведение человека.
Собственно говоря, способность языка воздействовать на поведение человека давно уже была открыта и столь же давно сознательно утилизируется. Более того, изучению этой способности посвящена особая дисциплина - стилистика (а также риторика - теория красноречия, или наука об ораторском искусстве). Ведь если бы язык не обладал качеством воздействия, то невозможна была бы художественная литература, которая целиком строится на том, что, помимо всего прочего, язык есть средство передачи эстетической информации. Организованная соответствующим образом, эта эстетическая информация и обусловливает художественное воздействие языка, который разделяет это свойство с другими видами и способами передачи эстетической информации, предоставленными в живописи, скульптуре, музыке, архитектуре и т. д. Эта сторона деятельности языка настолько изучена и настолько известна, что не требует детального изложения. Следует только выразить удивление, что при рассмотрении гипотезы Сепира-Уорфа во всех ее аспектах об этой стороне языка всегда забывают.
Правда, теория "лингвистической относительности" обращена в первую очередь к содержательной (понятийной) стороне языка, но следует учесть, что в языке все существует не раздельно, а в очень тесном переплетении. Это относится и к отношениям между эстетической и содержательной (понятийной) информациями. Ведь и сами понятия, получающие свою фиксацию в содержании слова, нередко обладают устойчивой оценочной (экспрессивно-стилистической) характеристикой и оказываются, таким образом, также носителями эстетической информации.
И все же в целях большей ясности изложения мы, отметив способность языка оказывать воздействие на поведение человека через посредство своих эстетических качеств, в дальнейшем изложении отмыслимся от них и обратимся к другой, совершенно уникальной способности воздействия языка на поведение человека, которая самым непосредственным образом связана именно с его мыслительной деятельностью.
В конечном счете мыслительная деятельность человека- это тоже вид поведения человека, который подчиняется психическим закономерностям в такой же мере, как и все другие виды поведения человека. Если мы при этом учтем, что мышление человека преимущественно протекает в языковых формах, мы неизбежно должны будем прийти к выводу, что язык может оказывать и действительно оказывает воздействие на поведение человека, используя имеющиеся в его распоряжении каналы. Это отнюдь не равнозначно утверждению, что язык оказывает влияние на формирование логических категорий, которые, хотя и являются продуктом психических процессов (мыслительной деятельности), сами по себе не психической природы. Это означает лишь то, что существующие в языках способы и виды классификации содержательных единиц, возникающих также в связи с мыслительной деятельностью, оказывают влияние на поведение человека именно своими классификационными особенностями. В какой-то степени к этому утверждению приближается и точка зрения Джона Кэрролла, который пишет: "В той мере, в какой языки различаются способами кодирования объективного опыта, пользующиеся языком склонны сортировать и подразделять данные опыта различно - соответственно категориям, которые представлены в разных языках. Эти познавательные особенности способны оказывать определенное воздействие на поведение. Человек, говорящий на одном языке, может, например, игнорировать различия, регулярно отмечаемые человеком, говорящим на другом языке. Это не значит, что он всегда игнорирует их, так как эти различия могут быть отмечены и быть предметом разговора в любом языке, но это суть различия, которые не всегда заметны в его опыте* Вот здесь и следует искать основные ресурсы средств воздействия языка на поведение.
* (J. Carroll, Linguistic Relativity, Contrastive Linguistics and Language Learning, "Iral", 1963, vol. I, No. 1, pp. 12-13. )
К сожалению, эта область отношений языка и человека очень мало исследована. Но все же некоторая работа в этом направлении была проделана, и о ней следует кратко упомянуть. Из существующих работ* ради краткости остановимся лишь на двух, в которых эксперимент был проведен наиболее последовательным и систематическим образом.
* ( Cm.: J. Greenberg, Concerning Inferences from Linguistic to Nonlinguistic Data, "Language in Culture", ed. by H. Hoijer, Chicago, 1956; R. Brown, Linguistic Determinism and the Parts of Speech, "Journal of Abnormal and Social Psychology", 1957, vol. 55, pp. 1-5; G. Miller and J. Selfridge, Verbal Context and the Recall of Meaningful Material, "American Journal of Psychology", 1950, vol. 63, pp. 176-185; R. Вrоwn and E. Lenneberg, A Study in Language and Cognition, "Journal of Abnormal and Social Psychology", 1954, vol. 49, pp. 454-462 и др).
Э. Леннеберг, уже давно интересующийся данной проблемой, в сотрудничестве с Дж. Робертсом задался целью выяснить, в какой степени языковая номенклатура цветовых различий, характерная для разных языков, оказывает воздействие на отношение говорящих к цветовому спектру*. Для сравнения были взяты цветовые обозначения в английском (в его американском варианте) и в языке зуни (штат Новая Мексика). При этом привлекавшиеся к эксперименту информанты языка зуни были как монолигвы, так и билингвы, которые в разной степени также владели английским. Говоря о своем эксперименте, авторы пишут: "Предполагалось, что восприятия цвета, как такового, были одинаковыми у говорящих по-английски и на языке зуни, но что цветовой спектр в обоих языках членится по-разному. Это последнее подтвердилось. В той степени, в какой различаются подразделения цветового спектра, говорящие на обоих языках, очевидно, должны подвергаться разной обусловленности в отношении исследуемой ситуации"**. Предположения экспериментаторов оправдались. В своей совокупности цветовые термины обоих языков покрывали весь спектр, но характер языкового членения спектра и, в частности, большая или меньшая языковая дифференциация отдельных (основных) цветов привели к неравнозначным поведенческим реакциям. Это нашло свое выражение в том, что фокусные части основных цветов (не говоря уже о границах основных цветов) указывались на спектре представителями обоих языков несовпадающим образом. Характерно, что зуни - монолингвы и билингвы - реагировали при этом по-разному. Как пишут авторы, "факт, что зуни-билингвы членили цветовой спектр в самом языке зуни по-иному, нежели зуни-монолингвы, был драматическим открытием. Во многих случаях термин оставался неизменным, но референты различались"***.
* (См.: Е. Lenneberg and J. Roberts, The Language of Experience, Baltimore, 1956.)
** (Tам же, стр. 32.)
*** ( Tам же)
Во втором случае был проделан опыт с носителями языка хопи и английского. Учитывая, что в хопи есть глагол со значением "покрывать отверстие", а в английском глаголы: close- "закрывать" и cover - "покрывать", было предложено расклассифицировать рисунки, изображающие различные виды этих действий (например, женщина, закрывающая ящик крышкой, или другая, покрывающая швейную машину покрывалом, и пр.). Выяснилось, что носители обоих языков осуществляли классификацию рисунков в соответствии со значением глаголов в хопи и в английском*.
* (См.: J. Carroll and J. Casagrande, The Function of Language Classifications in Behavior. Readings in Social Psychology, 3 ed., New York, 1958. )
К экспериментам этого порядка примыкают и другие, выясняющие воздействие языка на поведение помимо классификационных систем, которыми язык фиксирует человеческий опыт. Так, например, в одном опыте чеху, поляку и французу было представлено для восприятия три стука абсолютно одинаковой интенсивности. Все интерпретировали эти стуки в соответствии с моделями словесного ударения их родных языков. Чех, в языке которого ударение падает на первый слог, заявил, что первый стук был самым сильным. Француз, язык которого характеризуется конечным словесным ударением, отметил в качестве самого сильного последний стук. А поляк, в языке которого ударение падает на предпоследний слог, выбрал как самый сильный срединный стук*.
* (CM.: J. Lоtz, Linguistics: Symbols Make Man. Сб. "Frontiers of Knowledge", ed. by L. White Jr., New York, 1956. )
Подобные исследования дают достаточно убедительные доказательства влияния языка на поведение человека. Следует только отметить, что мы располагали бы еще более доказательным материалом, если бы были проведены под соответствующим углом зрения исследования в области билингвизма вообще и случаев семантической афазии у билингвов в частности. В высшей степени интересные работы по билингвизму У. Вайнрайха*, Э. Хаугена** и др., так же как исследования афазии у билингвов, проведенные В. Лямбертом и С. Филленбаумом***, А. Лейшнером****, М. Минковским***** и А. Питре******, хотя и содержат отдельные поучительные соображения относительно данного аспекта функционирования языка, однако не дают прямой информации по интересующему нас вопросу.
* (CM.: U. Weinreiсh, Languages in Contact, New York, 1954. )
** (См.: E. Haugen, Bilingualism in the Americans, Alabama, 1965. )
*** (CM.: W. Lambert and S. Fillenbaum, A Pilot Study of Aphasia Among Bilinguals, "Canadian Journal of Psychology", 1959, vol. 13, pp. 28-34. )
**** (CM.: A. Leischner, Uber die Aphasie der Mehrsprachigen, "Ar- chiv fur Psychiatrie und Nervenkrankheiten", 1948, Bd. 180, S. 731-775. )
***** (См.: M. Minkowski, Sur un cas d'aphasie chez un polyglotte, "Revue de neurologique ", 1928, vol. 35, pp. 361-366. )
****** (См.: A. Pitres, Etude sur l'aphasie chez les polyglottes, " Revue de medecine", 1895, vol. 15, pp. 873-899. )
Значительно ближе к проблеме влияния языка в его отмеченных выше классификационных качествах на поведение подходит то направление исследований, которое получило в США название "анализа содержания" (Content Analysis).
Принципы "анализа содержания" формулируются совместными усилиями лингвистов и психологов, использующих в своих исследованиях и методы и категории тех наук, которые они представляют. Эту "пограничную" область исследований иногда относят к так называемой психолингвистике, которая, однако, определяется довольно разноречивым образом и характеризуется большим разнообразием проблем. Что касается самого "анализа содержания", то представители его изъясняют его сущность достаточно конкретно. "Анализ содержания,- пишет, например, Дженис,- можно определить, как технику классификации знаковых средств... В результате анализа содержания устанавливается частота употребления знаков - или группы знаков - для каждой категории в классификационной схеме"*. В этом определении, впрочем, недостаточно четко указывается направленность исследований целиком на значения. Поэтому определение, данное Берельсоном, лучше раскрывает сущность этого направления. Он пишет: "Анализ содержания - это исследовательская техника для объективного, систематического и квантитативного описания манифестированного содержания коммуникации"**.
* (Y. L. Janis, Meaning and the Study of Symbolic Behavior, "Psychiatry", 1943, No. 6, p. 429. )
** (B. Berelson, Content Analysis in Communication Research, Chicago, 1952, p. 18.
В этой книге дается также подробная библиография относительно "анализа содержания" (см. pp. 199-220, а также раздел "The History of Content Analysis", pp. 21-25). Ср. также следующее определение: "Систематический анализ содержания стремится установить более непреднамеренное описание содержания, с тем чтобы объективно показать природу и относительную силу стимулов, адресованных (applied to) читателю или слушателю" (D. Wарlеs and В. Berelson, What the Voters Were Told: An Essay in Content Analysis, Chicago, 1941, p. 2).)
Данная "исследовательская техника" имеет сугубо практическую целеустановку. В самых общих чертах задачи "анализа содержания" заключаются в разработке приемов истолкования и использования категорий "содержания" языка в целях управления социальным и индивидуальным поведением человека (в политической пропаганде, в предвыборной борьбе, в рекламе и пр.). В соответствии с этими задачами в качестве исследовательского материала используются выступления разных политических деятелей или статьи из политических журналов и газет. Следует при этом отметить, что истолкование материала при "анализе содержания" осуществляется под определенным политическим углом зрения и отнюдь не характеризуется научной бесстрастностью.
Как явствует из самой целеустановки "анализа содержания", способность языковых средств (в данном случае "значений") воздействовать на поведение человека принимается в качестве исходного положения.
В соответствии с задачами "анализа содержания" выделяются и единицы анализа. Ими не являются "значения", как они традиционно определяются в языкознании. Рассказывая о дискуссии по этому поводу, один из самых активных деятелей данного направления Сола Пул пишет: "Конференция обсудила вопрос о существовании основной единицы значения, релевантной для анализа содержания, и о ее характере. Ясно, что это не может быть единичное слово... хотя в анализе слово нередко выступает в качестве такой единицы. Морфема - слишком малая единица, чтобы заинтересовать анализ значения. Экспериментальные исследования процессов чтения и писания, а также теоретические работы в области лингвистики дают основания предполагать, что существуют единицы более приспособленные для действительного процесса коммуникации, чем единичные слова"*. Такая единица, метафорически именуемая "строительным блоком" речи, относится к семантической структуре и является единицей значимой связной речи (discours). Она обладает "относительно малой свободой варьирования внутри себя и большой свободой вне своих границ"**. Она может видоизменяться в зависимости от целей.
* (I. Sola Pool, Trends in Content Analysis Today: A Summary. В кн.: "Psycholinguistics. A Book of Readings", ed. by Sol Saporta, New York, 1961, p. 309.)
** (Tам же, стр. 310.)
Как видно из этих довольно туманных определений, единица анализа носит скорее психологический, нежели лингвистический характер, что подтверждается и тем, что ее величина устанавливается релевантностью применительно к "психологическим процессам в коммуникативном организме"*.
* (I. Sola Pool, Trends in Content Analysis Today: A Summary. В кн.: "Psycholinguistics. A Book of Readings", ed. by Sol Saporta, New York, 1961, p. 309.)
Столь же психологическими по своей природе являются и "стандартизованные категории анализа содержания, которые могут быть использованы различными исследователями в различных исследованиях и которые создают основу для сопоставительного рассмотрения этих исследований"*. Набор этих категорий видоизменяется от автора к автору. В одном случае это индекс мотивов коммуникации, в другом случае набор, состоящий из таких категорий, как "за себя" (pro-self) и "за другого" (pro-other), "против себя" (anti-self) и "против другого" (anti-other). Анализ посредством такого рода категорий осуществляется, как правило, по двум координатам - "напряженности" (tension) и "валентности" (valence). В конечном счете "анализ содержания", однако, упирается в лингвистические проблемы, так как основными своими теоретическими вопросами он считает вопросы, как следует соотносить категории языка с категориями значения и каковы различные речевые пути, которыми может быть выражена одна и та же идея.
* (Tам же, стр. 315. )
С точки зрения приверженцев "анализа содержания" между их направлением и лингвистическими исследованиями существует, однако, несогласованность целей. "Лингвисты не интересуются значениями, а только дистрибуцией форм, преимуществом их появления соотносительно с другими формами" (Хэррис). Анализ содержания не интересуется формами, но только значениями, которые эти формы передают. Лингвисты не интересуются частотностями. Их внимание направлено на выяснение того, может ли данная структура появиться, но не как часто она появляется. Анализ содержания заинтересован только в количествах, а не в различиях между тем, что не может появиться в языке, и тем, что может появиться в языке, но частота появления чего в данном отрывке равна нулю"*. Если удастся проложить мост между этими различными направлениями исследования, то это может послужить на пользу как лингвистике, так и анализу содержания. В частности, анализ содержания ждет помощи от лингвистики в отношении указания, какие характеристики языкового употребления являются фиксированными характеристиками кода и, следовательно, образуют константу между индивидами и ситуациями, а какие характеристики являются частными для индивида или ситуации и, следовательно, могут быть использованы в качестве психолингвистических показателей.
* ( Tам же, стр. 323. )
В целом "анализ содержания" можно интерпретировать как своеобразную квантитативную психолингвистическую стилистику, занятую выявлением преимущественно статистических модусов воздействия языка (в его семантическом аспекте) на поведение человека. Однако следует отметить, что его "стандартизованные категории" во многом являются производными от того идеологического угла зрения, который определяет целеустановку "анализа содержания" и под которым проводится все исследование. И это сближает "анализ содержания" с "общей семантикой"*.
* (Относительно "общей семантики" см. книгу Г. А. Брутяна "Теория познания общей семантики" (Ереван, 1959). )
Любое оружие может получить прямо противоположное назначение в зависимости от того, в чьи руки оно попадает. Отсюда и противоречивая оценка оружия. Так происходит и с "анализом содержания". Ал. Нейберт относится к нему резко отрицательно, квалифицируя его как весьма действенное орудие враждебной идеологии*. Советские рецензенты закрыли глаза на эту сторону "анализа содержания" и отнеслись к нему лишь как к одной из возможных лингвистических проблем. Идеологическая целеустановка "анализа содержания" для них лишь превходящее обстоятельство, которое "только снижает научный уровень статьи", но "с точки зрения лингвистической такие работы могут быть интересны в плане выявления стандартных категорий эмоциональной оценки, применяемых в отношении людей и групп в обществе"**. Если рассматривать "анализ содержания" как идеологическое оружие, то это - оружие принуждения, которое всегда насильственно. Его необходимо знать и для того, чтобы уметь противодействовать ему. И в любых случаях надо иметь четкое представление о его силе, не закрывая глаз на возможности его применения.
* (См.: Albrecht Neubert, Semantischer Positivisinus in den USA, Halle (Saale), 1962, S. 143-146. )
** ("Вопросы языкознания", 1964, № 4, стр. 136. )
С точки же зрения разбираемой в настоящем разделе проблемы следует отметить, что "анализ содержания" стремится максимально выявить те потенции воздействия языка на поведение человека, которые скрываются в классификационных качествах языка. Но классификационными качествами языка не исчерпываются ресурсы воздействия его на поведение человека.
Значительно более широкой (по сути говоря, всеохватывающей) основой детерминирования поведения человека через посредство языка является то обстоятельство, что язык синтезирует и концентрирует в себе многочисленные данные прошлого опыта и, используясь в качестве средства мышления, подчиняет человека тем нормам поведения, которые формируются под влиянием этого опыта. Можно сказать, что наше поведение пронизано языком в той же мере, в какой оно предопределяется всем усвоенным нами опытом предшествующих поколений. Ведь все, что мы знаем о своем прошлом и настоящем, усваивается нами через язык и благодаря языку. При этом совершенно очевидно, что в данном случае имеется в виду не какой-либо конкретный язык со свойственными ему грамматическими или семантическими категориями, а человеческий язык вообще. Частные качества языка, подчеркиваемые теорией "лингвистической относительности", не имеют здесь никакого значения: любой язык одинаково успешно выполняет эту функцию, имеющую не меньшее значение, чем способность языка быть средством общения и средством воплощения мысли. Есть все основания поставить способность языка интегрировать и синтезировать человеческий опыт в один ряд с его способностью быть средством общения и средством воплощения мысли. Этому качеству языка до настоящего времени уделялось совершенно недостаточно внимания, но если более внимательно к нему приглядеться, то легко убедиться, что по своей важности оно отнюдь не уступает уже признанным двум свойствам (функциям) языка. Оно является не только полноправным, но и обязательным членом вырисовывающейся таким образом триады основных качеств или функций языка. Если эту функцию исключить, то многое во взаимоотношениях между коммуникативной и мыслительной функциями остается непонятным, загадочным и во многом схематичным и даже схоластическим. Так, иногда говорят, что язык постольку и может воплощать мысль, поскольку он используется в качестве средства общения.
В этом утверждении совершенно справедливо подчеркивается взаимозависимость коммуникативной и мыслительной функций языка. Но и воплощение мысли и осуществление общений возможны постольку, поскольку и то и другое опирается на опыт, который составляет содержание и мысли и общения. Более того, интегрированный и синтезированный в языке опыт во многом детерминирует и мысль и общение-ведь все, о чем мы мыслим, и все, о чем мы говорим, вращается вокруг данных опыта, заключенных в самом языке. Но человек не только говорит и не только мыслит, но и действует. Все это в целом составляет его деятельность. Хотя в широком смысле и мышление, и речь, и действия человека следовало бы рассматривать лишь как компоненты сложной структуры поведения человека, обычно к категориям поведения человека относят только его действия за вычетом мышления и речевого общения. Если встать на эту точку зрения, то можно сказать, что триада качеств языка (интегрировать и синтезировать опыт- воплощать мысль - осуществлять общение) соответствует триаде деятельности человека, включающей мышление, речевое общение и поведение. А так как члены обеих триад находятся в отношении взаимозависимости, то каждый из них, взятый в отдельности, не может не носить следов прямых воздействий со стороны других членов, с одной стороны, и не координироваться с членами другой триады - с другой. Так и получается, что наше поведение детерминируется нашим опытом, синтезированным и интегрированным в языке посредством мышления.
В свое время замечательный советский психолог Л. С. Выготский, характеризуя динамический характер отношений языка и мышления (мысли и слова, по его терминологии), а также их взаимообусловленность, писал: "Отношение мысли к слову есть прежде .всего не вещь, а процесс, это отношение есть движение от Мысли к слову и обратно - от слова к мысли. Мысль не выражается в слове, но совершенствуется в слове"*. Такой же динамический характер носят и отношения поведения к синтезированному в языке опыту. Здесь мы также имеем дело не с "вещью", а с процессом, но этот процесс может быть как стандартизированным, шаблонным (нормы поведения), так и глубоко
индивидуализированным, но, конечно, также укладывающимся в определенные рамки.
* (Л. С. Выготский, Мышление и речь, М., 1934, стр. 269. )
Сказанное можно проиллюстрировать на следующем примере, к которому обращаются также американские психологи Д. Миллер, Е. Галантер и К. Прибрам*.
* (См.: Д. Миллер, Е. Гала и тер и К. Прибрам, Планп и структура поведения, М., 1965. )
Человек, по-видимому, единственное существо на земном шаре, которое знает, что оно должно умереть. И то обстоятельство, что лишь один человек владеет этим малоутешительным знанием, дает основание сделать вывод, что это знание доставил ему язык, так как "языки" других земных существ, очевидно, не обладают способностью интегрировать и синтезировать предшествующий опыт и в обогащенном виде передавать его из поколения в поколение. "Страх смерти для старого человека - это то же, что вожделение для молодого"*, но знание неизбежности конца, конечно, не удел определенного возраста, оно проходит через всю жизнь человека и порождает соответствующие общественные установления. В этом случае создаются стандартизированные, или шаблонные, процессы поведения, о которых говорилось выше. Они принимают вид определенных правовых и этических норм социального поведения (например, права имущественного наследования, установление внутриплеменных или внутрисемейных отношений), религиозной обрядовости, оценки заслуг (некрологи, надгробные речи) и пр.
* (Там же, стр. 152. )
Но, разумеется, значительно более многообразно индивидуальное поведение, обусловленное знанием неизбежности смерти.
Печальное знание своей смертности приходит к ребенку обычно в возрасте 5-8 лет и, как правило, воспринимается очень остро. Смерть может ворваться в жизнь ребенка резко и грубо, но может войти в его сознание окольными путями, несмотря на негласное табу смерти, которого люди придерживаются между собой. Так, в один прекрасный день между вами и вашим малолетним сыном или вашей маленькой дочкой происходит примерно такой разговор:
- Папа, а почему к нам больше не приходит Борис Васильевич с бородкой?
- Он больше не будет приходить к нам, девочка.
- Почему не будет?
- Его больше нет.
- Как нет?
- Он умер.
- Как умер?
- Это значит, что его больше нет.
- А почему он умер?
- Потому что все люди умирают.
- И ты умрешь, и мама умрет? (Ребенок безжалостен в своем стремлении все познать.)
- И я умру, и мама умрет, но об этом не надо думать.
И вот тут ребенок доходит до самого главного.
- И я умру?
- Зачем тебе, девочка, думать об этом? Это будет очень, очень не скоро. К тому же люди могут придумать лекарство от этого.
Все существо ребенка протестует против идеи смерти, так как вся его расцветающая жизнь есть ее отрицание. Но он уже понимает, что от "этого" лекарства нет и защищается от смерти по-ребячьи: прячется от нее, стремится обойти всякое напоминание о ней, запрещает читать сказки с "плохим" концом и, пристраиваясь смотреть телепередачу, опасливо спрашивает, чем она кончится. Все это и есть индивидуальная поведенческая реакция на опыт, приобретенный через язык.
Но постепенно поведение, обусловленное сознанием смертности, с возрастом автоматизируется. Это значит, что идея смерти ушла в подсознание, из глубин которого она все же продолжает оказывать свое воздействие на поведение человека. Все это могло бы дать много фактов для любопытного специального исследования на тему о языке и подсознании. И 3. Фрейд неоднократно подступал к этой теме. Но, как указано в "Философском словаре" (под редакцией М. М. Розенталя и А. Ф. Юдина), учение 3. Фрейда "в целом произвольная, надуманная, субъективистская теория", и поэтому не рекомендуется касаться ее.
Идея смерти может, впрочем, в любое время вновь прорваться на поверхность сознания и вызвать определенные поступки, а иногда окрасить собой целые периоды или, в крайней своей форме, всю жизнь человека. Отчетливее всего это проявляется в творчестве художников п писателей. Обычный смертный довольствуется простой и, по-видимому, самой мудрой формулой: "Пока жив - живи, а настанет твой срок - умирай". Но гипертрофированная личность крупного художника не мирится с такой формулой, и его отношения со смертью обычно приобретают глубоко личный и яркий характер, входя в его творческую концепцию важным компонентом и нередко детерминируя его мысли и поступки.
Так, М. Горький рассказывает о Л. Толстом: "Он часто казался мне человеком непоколебимо - в глубине души своей - равнодушным к людям, он есть настолько выше, мощнее их, что они все кажутся ему подобными мошкам, а суета их - смешной и жалкой. Он слишком далеко ушел от них в некую пустыню и там, с величайшим напряжением всех сил духа своего, одиноко всматривается в "самое главное"- в смерть...
Всю жизнь он боялся и ненавидел ее, всю жизнь около его души трепетал "арзамасский ужас": ему ли, Толстому, умирать? Весь мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки - отовсюду к нему протянуты живые трепетные нити, его душа - для всех и - навсегда! Почему бы природе не сделать исключения из закона своего и не дать одному из людей физическое бессмертие,- почему? Он, конечно, слишком рассудочен и умен для того, чтобы верить в чудо, но, с другой стороны,- он озорник, испытатель и, как молодой рекрут, бешено буйствует со страха и отчаяния перед неведомой казармой. Помню - в Гаспре, после выздоровления, прочитав книжку Льва Шестова "Добро и зло в учении Ницше и графа Толстого", он сказал в ответ на замечание А. П. Чехова, что "книга эта не нравится ему":
- А мне показалась забавной. Форсисто написано, а - ничего, интересно. Я ведь люблю циников, если они искренние. Вот он говорит: "Истина - не нужна", и верно: на что ему истина? Все равно - умрет.
И, видимо, заметив, что слова его непонятны, добавил, остро усмехаясь:
- Если человек научился думать,- про что бы он ни думал,- он всегда думает о своей смерти. Так все философы. А - какие же истины, если будет смерть?"
Точно так же и у одного из крупнейших писателей современности - Эрнеста Хемингуэя - мысль о смерти прошла через все его творчество. Всю свою жизнь он всматривался в лицо "Старой Суки", заигрывал с ней, пытал ее и старался доказать себе, что единственная возможность победить ее - сделать будничной, поставить в ряд самых обычных вещей и тем самым перестать испытывать страх перед ней. С этой целью он одевал ее в затрапезные одежды самых обычных слов, представлял в намеренно вульгарных образах. В стихотворении, написанном во время последней войны, когда Э. Хемингуэй использовал свою яхту в качестве приманки для немецких подводных лодок, подвергаясь смертельной опасности, он писал:
Ишь, дрыхнет Со Смертью, дырявой задрыгой, Он, Трижды отвергший ее.., Повторяй: Опочил он Со Смертью, страстной лахудрой, Он, Трижды отвергший ее. Обожди... Пусть... Ну, вот теперь можно. Дальше. Отвергал ты ее? Да. Трижды? Да. Повторяй за мной: Берешь ли Старую Суку В возлюбленные Супруги своя?
И самоубийство Э. Хемингуэя - в контексте всего его творчества, мировоззрения и личных отношений к смерти - это не поражение человека, а его победа: он пошел навстречу неизбежному с такой же бестрепетностью и самообладанием, с какой идут в кино или на прогулку, не отметив значение своего поступка ни словом, ни письмом, ни жестом.
Но можно ли сказать, что за всеми этими поступками, за всем этим поведением стоит лишь язык? Конечно, нет. За ними стоит и опыт всего человечества, и соотнесенный с ним личный опыт. Но и язык здесь далеко не посторонний персонаж. Если бы не было языка, то человек смог бы в лучшем случае руководствоваться лишь своим личным опытом. А так как умирать ему приходится только раз в жизни, то он бы и не знал о смерти. Язык приносит с собой не только абстрактное знание, и каким бы ни было личным отношение каждого человека к смерти, он обычно поступает в соответствии с установившимися стандартами поведения, знание которых он также черпает из языка. Поэтому и можно сказать, что опыт, синтезированный в языке, находит свое динамическое выражение в нормах поведения.
Но даже и свой личный опыт человек укладывает в языковые формы, неизбежно соотнося его, однако, с общечеловеческим опытом, синтезированным в языке. На этой основе иногда возникает чрезвычайно своеобразная игра взаимодействий между опытом, его языковым выражением и поведением. Эта игра чаще всего выливается в формы "самодеятельной" философии, принимаемой как руководство к действию. Используя и в данном случае пример с идеей смерти, которая с наибольшей ясностью выявляет скрытые пружинки многих поступков человека, для иллюстрации сказанного можно привести чрезвычайно любопытные в этом отношении воспоминания Н. Чуковского о Н. А. Заболоцком (воспоминания под заголовком "Встречи с Заболоцким" помещены в журнале "Нева", 1965, № 9).
"Заболоцкий утверждал,- пишет Н. Чуковский,- что смерти нет: смерти не было, нет и никогда не будет. Он утверждал это в течение всей своей сознательной жизни, с молодых лет до конца. Утверждал в разговорах с друзьями, утверждал в стихах.
В основе этого утверждения лежала мысль, что если каждый человек, в том числе и он, Николай Заболоцкий - часть природы, а природа в целом бессмертна, то и каждый человек бессмертен. Смерти нет, есть только превращения, метаморфозы". В 1937 г. Заболоцкий воплотил эту "утешительную мысль" в стихотворении "Метаморфозы", где говорится:
Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел Я отделил от собственного тела! И если б только разум мой прозрел И в землю устремил пронзительное око, Он увидал бы там, среди могил, глубоко Лежащего меня. Он показал бы мне Меня, колеблемого на морской волне, Меня, летящего по ветру в край незримый, Мой бедный прах, когда-то так любимый,- А я все жив!..
И эта мысль многократно повторяется на протяжении всего творчества Заболоцкого. Но вот однажды Н. Чуковский прислал Заболоцкому юмористические стихи, в которых вышучивал его философию. К своему удивлению, Н. Чуковский не получил никакого ответа на это послание. Через месяц состоялась их встреча. Заболоцкий был весел и с большим оживлением читал свою новую поэму "Рубрук". И Н. Чуковский продолжает: "Когда разговор о "Рубруке" иссяк, я спросил его, получил ли он мое послание. И был поражен, как внезапно изменилось его лицо. Он потемнел, замолк, поник. Мне стало жалко его. Я понял, как некстати была моя шутка.
Я понял, что вся созданная им теория бессмертия посредством метаморфоз всю жизнь была для него заслоном, защитой. Мысль о неизбежности смерти - своей и близких - была для него слишком ужасна. Ему необходима была защита от этой мысли, он не хотел смириться, он был из несмиряющихся. Найти защиту в представлении о бессмертной душе, существующей независимо от смертного тела, он не мог - всякая религиозная метафизическая идея претила его конкретному, предметному, художественному мышлению. Поэтому он с таким упорством, непреклонностью, с такой личиой заинтересованностью держался за свою теорию превращений, сулившую бессмертие и ему самому и всему, что он любил, и сердился, когда в этой теории находили бреши.
Он умер через два месяца после этого нашего свидания".
В этом отрывке из воспоминаний отчетливо видно, как взаимодействуют различные величины: человек через язык получает знание о неизбежности смерти, реагирует на это созданием "самодеятельной" (по выражению самого Заболоцкого) теории, воплощает ее в языковые формы (создание цикла стихотворений, изложение ее друзьям) и затем принимает к руководству в своих поступках. А то, что "самодеятельная" теория была для Заболоцкого не только умозрительным построением, но и своеобразным словесным организмом, наделенным реальной силой воздействия, свидетельствуется другими воспоминаниями - В. Каверина. "Он был человеком глубокой мысли,- пишет В. Каверин о Заболоцком,- и глубокого чувства, но выражение мысли и чувства было не так-то легко для него. Все выражалось в слове. А слово было для него не только элементом речи, но как бы орудием какого-то действа, свершения. Думая о нем, невольно вспоминаешь библейское "в начале бе слово" (В. Каверин, За рабочим столом, "Новый мир", 1965, № 9, стр. 163).
Язык - большой искусник в создании ловушек для пленения человеческого ума. И надо сказать, иногда человек охотно идет навстречу этим ловушкам. Он может пойти на поводу не только содержания, заключенного в языке, но и формы языкового выражения этого содержания. Так происходит при господствовании всякого рода культов - религиозных, политических, эстетических, философских и пр. В этом случае планы поведения и отдельные поступки людей определяются и оцениваются в терминах, понятиях и образах этих культов. Под них подгоняются не только отдельные поступки, но и вся жизнь людей, и таким образом слово приобретает не свойственную ему власть. Все это легко можно было бы показать, например, на той роли, какую библия играла в жизни глубоко религиозных людей (или вообще в периоды всевластия христианства). Как часто в этих случаях божественная истина искалась (и ищется еще) не в религиозном учении, стоящем за библией, а именно в самих словах библии. Крайнюю форму такого подчинения власти слова изображает Л. Толстой, рассказывая о масонских увлечениях Пьера Безухова. "Пьеру было открыто одним из братьев-масонов следующее, выведенное из Апокалипсиса Иоанна Богослова, пророчество относительно Наполеона.
В Апокалипсисе, главе тринадцатой, стихе восемнадцатом, сказано: "Зде мудрость есть; иже имать ум да почтет число зверино: число бо человеческо есть и число его шестьсот шестьдесят шесть".
И той же главы в стихе пятом: "И даны быша ему уста глаголюща велика и хульна; и дана бысть ему область творити месяц четыре - десять два".
Французские буквы, подобно еврейскому число-изображению, по которому первыми десятью буквами означаются единицы, а прочими десятки, имеют следующее значение :
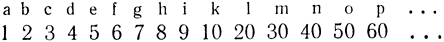
Написав по этой азбуке цифрами слова L'empereur Napoleon, выходит, что сумма этих чисел равна 666-ти и что поэтому Наполеон есть тот зверь, о котором предсказано в Апокалипсисе. Кроме того, написав по этой же азбуке слова quarante deux, то есть предел, который был положен зверю глаголати велика и хульна, сумма этих чисел, изображающих quarante deux, опять равна 666-ти, из чего выходит, что предел власти Наполеона наступил в 1812-м году, в котором французскому императору минуло 42 года. Предсказание это очень поразило Пьера, и он часто задавал себе вопрос о том, что именно положит предел власти зверя, то есть Наполеона, и, на основании тех же изображений слов цифрами и вычислениями, старался найти ответ на занимавший его вопрос"*. Путем всякого рода сложных манипуляций он устанавливает, что lerusse Besuhof (то есть "русский Безухов") также равняется числу 666, из чего делает заключение, что предел власти зверя должен положить он, Пьер, и, переодевшись простолюдином и вооружившись, отправляется убивать Наполеона.
* (Л. Н. Толстой, Собрание сочинений в двадцати томах, Гослитиздат, т. 6, М., 1962, стр, 91-92.)
Пример с Пьером стоит на грани, за пределами которой уже начинается магическое и ритуальное использование языка. Это очень интересная тема, но она выходит за рамки того рассмотрения, которое проводится в настоящем разделе.
Обзор каналов, по которым язык может осуществлять детерминирование поступков (конечно, не в абсолютном смысле), будет неполным, если не упомянуть также о так называемом "фатическом" воздействии языка.
Понятие "фатического общения" было введено в науку польским антропологом Брониславом Малиновским, и формулировалось оно в связи с его теорией о том, что "в своих примитивных использованиях языковые функции следует рассматривать как звено в согласованной человеческой деятельности, как компонент человеческого поведения. Язык есть вид деятельности, а не инструмент мышления"*. Б. Малиновский исходит из того, что в самой природе человека заложено стремление к социальности, желание быть вместе и радоваться присутствию рядом с ним других людей. Многие инстинкты и внутренние порывы, такие, как страх или драчливость, все виды социальных в своей основе чувств (в том смысле, что для своего проявления они требуют наличия общества), как например честолюбие, тщеславие, жажда власти и богатства и пр., зависят или находятся в прямой связи с фундаментальной тенденцией, которая делает необходимым для человека простое присутствие других. Язык и выступает в качестве внутреннего коррелята этой тенденции, используясь не для передачи какой-либо информации или мыслей, а лишь для той цели, чтобы установить социальную связь между людьми, которые в этом случае обмениваются ничего не значащими фразами, вроде: "Хороший сегодня денек" или: "Ну, как там дела?" и пр. "Не может быть сомнения,- пишет по этому поводу Б. Малиновский,- что здесь мы имеем дело с новым типом лингвистического использования - фатическим общением хочу я его назвать, искушаемый демоном изобретательства новых терминов,- типом речи, в котором объединяющие связи создаются посредством простого обмена словами. Взглянем на это со специальной точки зрения, которая нас занимает, и спросим: какой новый свет он бросает на функцию или природу языка? Используются ли при фатическом общении слова для передачи значений, значений, которые символизируются этими словами? Определенно, нет! Они выполняют социальную функцию, и в этом их основная цель, но они отнюдь не результат размышления и вовсе не стремятся возбудить в слушателе мысль. Еще раз мы должны сказать, что язык в данном случае не функционирует в качестве передатчика мысли"**.
* (В. Malinowski, The Problem of Meaning in Primitive Languages. Приложение к книге: С. К. Оgdеn and I. A. Richards, The Meaning of Meaning, London, 1923, p. 474.)
** ( В. Malinowski, The Problem of Meaning in Primitive Languages. Приложение к книге: С. К. Ogden and I. A. R ichards, The Meaning of Meaning, London, 1923, p. 478. )
Об этом же еще с большей наглядностью писал Э. Сепир, не связывая, правда, свои наблюдения с фатическим общением (хотя фактически говоря о нем) и устанавливая разные градации в осуществлении языком социальных связей, определяющих известные нормы поведения в отношении отдельных групп людей. Чтобы сделать достаточно ясной точку зрения Э. Сепира по этому вопросу, придется привести из его статьи большую цитату. "Язык,- писал он,- является огромной обобществляющей силой, может быть, наибольшей из всех существующих. Под этим разумеется не только очевидный факт, что без языка едва ли возможно осмысленное социальное общение, но также и тот факт, что общая речь выступает в качестве своеобразного потенциального символа социальной солидарности всех говорящих на данном языке. Психологическое значение этого обстоятельства выходит далеко за пределы ассоциации конкретных языков с нациями, политическими единствами или более мелкими локальными группами. Между признанным диалектом или языком как целым и индивидуализированной речью отдельных людей обнаруживается род языковой связи, которая не часто является предметом рассмотрения лингвистов, но которая чрезвычайно важна для социальной психологии. Это - подразделения языка, находящиеся в употреблении у группы людей, связанных общими интересами. Такими группами могут быть семья, ученики школы, профессиональный союз, преступный мир больших городов, члены клуба, группы друзей в четыре и пять человек, прошедших совместно через всю жизнь, несмотря на различие профессиональных интересов, и тысячи иных групп самого разнообразного порядка. Каждая из них стремится развить речевые особенности, обладающие символической функцией выделения данной группы из более широкой группы, способной полностью растворить в себе членов меньшей группы. Полное отсутствие лингвистических указателей таких мелких групп неясно ощущается как недостаток или признак эмоциональной бедности. В пределах, например, конкретной семьи произнесение в детстве "Дуди" вместо "Джорджи" может привести к тому, что первая форма утверждается навсегда. И это фамильярное произношение знакомого имени в применении к данному лицу превращается в очень важный символ солидарности конкретной семьи и сохранения чувств, объединяющих ее членов. Постороннему не легко дается привилегия говорить "Дуди", если члены семьи чувствуют, что он не переступил еще степени фамильярности, символизируемой употреблением "Джорджи" или "Джордж"... Чрезвычайная важность мельчайших языковых различий для символизации реальных групп, противопоставленных политически или социально официальным, инстинктивно чувствуется большинством людей. "Он говорит, как мы" равнозначно утверждению "он один из наших".
Существует другое важное определение, в котором язык является объединяющим явлением, помимо своего основного назначения - средства общения. Это - установление связи между членами временной группы, например во время приема гостей. Важно не столько то, что при этом говорится, сколько то, что вообще ведется разговор. В частности, когда культурное взаимопонимание отсутствует среди членов данной группы, возникает потребность заменить ее легкой болтовней. Это успокаивающее и вносящее уют качество речи, используемой и тогда, когда, собственно, и нечего сообщить, напоминает нам о том, что язык представляет собой нечто большее, чем простая техника общения. Ничто лучше этого не демонстрирует того, что жизнь человека как животного, возвышенного культурой, полностью проходит под властью голосовых субститутов для предметов физического мира"*.
* (Э. Сепир, Язык (статья в "Энциклопедии социальных наук", т. 9). Цитировано по книге: В.А.Звегинцев, История языкознания XIX - XX веков в очерках и извлечениях, ч. 2, М., 1965, стр. 276-277. )
Фатические качества языка выступают на первый план всякий раз тогда, когда "отключаются" все его прочие качества, в том числе и те, о которых говорилось выше и которые связаны с языком как классификационной системой и как аккумулятором человеческого опыта. Надо сказать, что это происходит не так уж редко, чему свидетельство многочисленные собрания людей, увлеченных исполнением определенного ритуала ("мероприятия") и не ставящих перед собой решение иных задач.
Если теперь расположить в один ряд все реальные модусы воздействия языка на поведение - от стилистико-экспрессивных до фатических, то станет совершенно ясно, что они не имеют ничего общего с теорией "лингвистической относительности" и в особенности в той ее крайней форме, какую мы находим в гипотезе Сепира - Уорфа. Язык обладает многими чудесными качествами, но он своими структурными особенностями не создает мировоззрения и не формирует логических категорий. Это вовсе не отнимает у него способности воздействовать - разумеется, не в абсолютном смысле (и это обстоятельство надо категорически подчеркнуть!) - на поведение человека. Но это воздействие осуществляется не через посредство гносеологических свойств языка, устанавливающих по смыслу гипотезы Сепира - Уорфа нормы поведения, а иными путями, о которых речь была выше. Показать это и было задачей настоящего раздела.
И хотя все модусы воздействия языка на поведение не укладываются в теорию "лингвистической относительности" и даже противоречат ее выводам, это не значит, что сама проблема "язык и поведение" должна быть снята с научной повестки дня. Совсем наоборот - это одна из самых насущных проблем, но она должна решаться на основе истинных отношений, существующих между теми категориями, которые принимают здесь участие.
|
ПОИСК:
|
© GENLING.RU, 2001-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://genling.ru/ 'Общее языкознание'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://genling.ru/ 'Общее языкознание'