
Га и глаголь

Михаил Васильевич Ломоносов был гениальным реформатором и грамматики русской, да и самого нашего языка в его целом. Он был первым великим русским языковедом.
Но, читая его языковедческие и грамматические работы, нельзя забывать, когда жил гениальный помор. В XVIII веке не существовало ни языковедческих теорий, ни основанных на таких теориях научных грамматик. Они еще полностью сохраняли старый то узкопрактический, то туманно-схоластический характер. О соотношениях между звуком и буквой, между звучащим, живым и письменным, закрепленным на бумаге словом никто ничего вразумительного не знал и не сообщал ни у нас, ни на Западе.
Удивительно ли, что первый русский ученый-лингвист в своих статьях и высказываниях сам нечетко разделяет то, что я уже многократно советовал вам никогда не смешивать, - звук и букву.
Ломоносов (такое было время) любил облекать свои совершенно серьезные изыскания в стихотворную форму. Навсегда останется жить его "Письмо о пользе стекла" - наполовину ученый трактат, наполовину вдохновенная поэма. Менее известны его стихотворные же рассуждения о различных языковых и грамматических закономерностях.
Искусные певцы всегда в напевах тщатся, Дабы на букве А всех долше отстояться; На Е и О притом умеренность иметь, Чрез У и через И с поспешностью лететь, Чтоб оным нежному была приятность слуху, А сими не принесть несносной скуки уху. Великая Москва в языке толь нежна, Что А произносить за О велит она...

Вы можете легко заметить, как Ломоносов, воплощая в этих стихах ряд достаточно точных и тонких наблюдений над искусством тогдашних вокалистов и отстаивая свое любимое "московское акающее" произношение как "самое нежное", не делает заметной разницы между буквой и звуком. Разумеется, "искусные певцы" имеют все основания "отстаиваться", как можно дольше тянуть звук "а" при пении. Буква А для них не играет никакой роли, поскольку пение осуществляется голосом, а не письмом. Невозможно "тянуть голосом" написанный на бумаге маленький черненький значок.
Но не в этом дело. Научная терминология всех наук, и языкознания в частности, была в XVIII веке в России совсем не разработана. Ломоносов как раз создавал ее. А между "звуком" и "буквою" и западноевропейские ученые путались еще долго после ломоносовских времен.
Я говорю об этом лишь потому, что до конца книги мне придется еще не раз цитировать великого холмогорца. И если вас удивит не вполне точная языковедческая или грамматическая терминология его, не смущайтесь: я объяснил вам причины этого.
Я вспомнил о Ломоносове вот почему. Среди его произведений есть длинное и весьма примечательное по поэтическому мастерству стихотворение, посвященное, как это ни неожиданно, вопросу о двух возможных способах выражения на письме того русского звука, который и в наши дни изображается при помощи буквы Г.
В конце 40-х годов XVIII века Василий Кириллович Тредиаковский, один из самых образованных людей своего времени и далеко не бесталанный литератор, написал "Разговор между чужестранным человеком и российским об ортографии старинной и новой". В сочи-нении этом автор между другими темами касается и двойственного произношения в современном ему русском языке буквы Г: церковно-книжного - фрикативного, и народно-русского - взрывного. Для того чтобы слова с этими двумя разными "г" читались каждое по-своему правильно, Тредиаковский предлагал обозначать оба звука особыми буквами. Для фрикативного южнорусского звука он предлагал сохранить старый добрый "глаголь", "пошлое" же народное "г" означать впредь при помощи какого-либо нового и специального знака. Этот звук и этот знак, по его мнению, следовало бы называть "га".
Ломоносову это предложение показалось (и вполне основательно) орфографической ересью. Он уже в те времена чувствовал, что фрикативный звук "г" несвойствен русскому языку, и если еще встречается в произношении полудюжины церковных или близких к ним слов, то вот-вот будет и в них вытеснен всенародным "г"; нет смысла оберегать и охранять его, устраивать для него как бы заповедник под защитой второй нарочитой буквы.
Несомненно, Ломоносову приходилось неоднократно вступать с Тредиаковским в устные перепалки при частных и официальных встречах. Думается, и сам предмет их ученого спора представлялся ему, с одной стороны, несколько "забавным", а пожалуй, и более забавным, чем "серьезным". Потому-то он и решил облечь свои возражения не в форму торжественной академической речи или сухой письменной отповеди, а превратить их в остроумно построенный "стихотворный фельетон", как назвали бы мы это теперь.

Вот оно, это удивительное "ортографическое" произведение.
Бугристы берега, благоприятны влаги,
О горы с гроздами, где греет юг ягнят,
О грады, где торги, где мозгокружны браги
И деньги, и гостей, и годы их губят!
Драгие ангелы, пригожие богини,
Бегущие всегда от гадкие гордыни,
Пугливы голуби из мягкого гнезда,
Угодность с негою, огромные чертоги,
Недуги наглые и гнусные остроги,
Богатства, нагота, слуги и господа...
Угрюмы взглядами, игрени, пеги, смуглы,
Багровые глаза продолговаты, круглы,
И - кто горазд гадать, и лгать да не мигать,
Играть, гулять, рыгать и ногти огрызать,
Ногаи, болгары, гуроны, геты, гунны,
Тугие головы - о йготи чугунны!
Гневливые враги и гладкословный друг,
Толпыги, щеголи, когда вам есть досуг -
От вас совета жду, я вам даю на волю:
Скажите, где быть "га" и где стоять
"глаголю"?
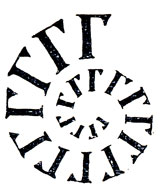
Я бы советовал сначала прочесть это стихотворение про себя, затем громко и внятно продекламировать его вслух - почувствуется незаурядная звучность и внутренний ритмический напор, - а потом уж постараться ответить на вопрос: что хотел сказать автор и каков поэти-ческий фокус этого своеобразного двадцатистишия.
Сосчитайте все входящие в него слова. Их окажется около 120. Два десятка междометий, союзов, предлогов, местоимений можно не принимать в расчет. Остаются существительные, прилагательные и глаголы. Теперь я попрошу вас прикинуть: какое число из них не 'содержит в себе буквы Г? Таких слов окажется всего 12. Они сосредоточены в трех последних строках стихотворения - там, где автор от эксперимента переходит уже к обращению к читателю. Следовательно, почти сто слов, составляющих основную ткань стихотворения, отличаются тем, что каждое из них заключает в себе искомую букву Г.
Стихотворение написано, чтобы воочию доказать нелепость и ненадобность внесения в русскую гражданскую азбуку лишней буквы.
Любопытно, скольким же из этой почти сотни Г надлежало бы, с позиций Тредиаковского, произноситься как "глаголь" и какому их числу пришлось бы получить произношение "га", обозначаемое знаком "γ"?
Даже с некоторыми натяжками допуская фрикативное произношение "г" для всех слов, имеющих хотя бы некоторый оттенок церковности, мы можем признать высокое право "содержать глаголь" трем, ну пяти из ста слов стихотворения - "богини", "богатства", "господа"... и обчелся. Остальные же 95-96 не допускали никаких колебаний. Уже и во дни Ломоносова с каждым годом становилось все труднее определить, когда же наступает необходимость и для каких именно слов годится тредиаковское искусственное "га".
Тредиаковский (а еще более А. Сумароков) в своей полемике с помором - ученым склонны были обвинять его в переносе на русский литературный язык его родных, архангельско-холмогорских диалектных норм, в том числе и произносительных. Они были не правы.
Ломоносов, родившийся в окающей языковой среде, отлично знал, как "нежна в языке великая Москва", и ориентировался именно на московский говор как на базу для общерусской литературной речи. Он не склонен был принимать и традиционно-книжного произношения окончаний родительного падежа - "-ого", "-аго", "-яго", ибо "великая Москва" давно уже произносила "с калашнава ряду". Но в такой же степени он не принимал и псевдостарославянского фрикативного "г" в русских или окончательно обрусевших словах.
Доказывая свою правоту, Ломоносов прибегнул к не слишком часто встречающемуся способу аргументации, к тому, что теперь принято именовать "стилистическим экспериментом". Надо сказать, он победил в споре, и его упорный и хорошо "подкованный" противник Тредиаковский перестал настаивать на необходимости своего "га".?
|
ПОИСК:
|
© GENLING.RU, 2001-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://genling.ru/ 'Общее языкознание'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://genling.ru/ 'Общее языкознание'